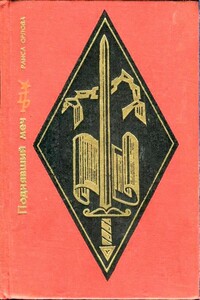Пьер Эммануэль такую речь про меня произнес, — повторять неловко. Вообще по-французски все получается тоньше, изящнее. И такой умница ничего о политике, только о художественных достоинствах, о языке.
В ПЕН-клубе принимали писательницу Евгению Гинзбург с сыном. А на празднике в «Юманите» почетным гостем был советский писатель Василий Аксенов с престарелой матерью (кокетливо отмахивается от наших возмущенных возражений).
Там на празднике ко мне тоже подходили разные люди и шептали на ухо: «Мы читали… Мы восхищались… Так прекрасно… Так ужасно…» И я поняла, что у них то же самое, что у нас, своя цензура, свое начальство. И они тоже боятся начальства, боятся наших.
Эту часть рассказа заключает гневно: «Ненавижу левых. Всех левых ненавижу…»
На столе книги с автографами. Французские и русские. Тоненький сборник стихов Ирины Одоевцевой.
— Старые русские эмигранты все читали мою книгу. Такие наивные. Трогательные. Хорошая старая речь. Только французские слова вставляют.
— Опасалась, как стану объясняться. Но французский вспомнила почти сразу. Откуда-то из глубин поднялись слова. Болтала легко, сама удивлялась.
В комнате — на полу, на диване, на стульях — распакованные и нераспакованные чемоданы, коробки, свертки. Еще не все подарки розданы. Привезла родным, друзьям, знакомым. Больше всего дочери.
Тоня приходит при нас. Рассказы прерываются, начинается праздничная суматоха примерок. Рады и мать, и дочь. И мы, зрители.
Осторожно спрашиваем про врачей — ведь эта поездка официально называлась «для лечения». И Вася сопровождал мать, ехавшую лечиться.
Чаковский, давая ему командировку «Литгазеты», патетически заметил: «Подписываю только потому, что помню о своей матери».
На наш вопрос о врачах отвечает раздраженно:
— Не ходила и не собираюсь. Я еще здесь заранее предупредила Ваську: никакого лечения. Еду смотреть. Видеть людей. Радоваться.
После краткой вспышки раздражения вновь улыбается:
— Вася взял машину напрокат. Правда, в Париже пришлось много ходить пешком. Там ведь трудно парковаться (мы смеемся — поборница чистоты речи снисходит к американизму).
— Едем в театр или в кино, машину приходится ставить так далеко, что идем два или три квартала.
— Ездили по Франции. На юг. В Ниццу. Были на могиле Герцена. В гостях у Шагала.
— В гостиницу приносили букеты цветов. От издателей — итальянских и французских. За меня ведь там шла борьба — кто получит авторские права на вторую часть. Я и не думала, что придется работать. Хорошего экземпляра второй и третьей части не оказалось, пришлось править какую-то слепую копию. Но я старалась, чтобы хоть опечаток не было.
Вспоминаем, как она огорчалась изданию шестьдесят седьмого года, где полным-полно опечаток.
Спрашиваем, будет ли она писать об этой поездке.
— Ну, что нового можно написать о Франции? Сколько уж русских писателей побывали в Париже, и какие… Но я вот что надумала: «Колымчанка в Париже». Назвать можно и так: «От Колымы до Сены».
Василий Аксенов рассказывал: «Мама сначала обрадовалась, что можно заказывать завтрак в номер. «Давай попроси завтрак в камеру!» Но потом решительно отказалась: «Нет, нет, я видела, как они подносы ставят на пол»».
У всех, у всех побывала (чуть понижая голос) — виделась и с Некрасовым, и с Синявским, и с Максимовым, и с Эткиндом. И все были ко мне так приветливы.
— Гриша Свирский звонил по телефону, приехать не мог — дорого.
— Обратный билет у нас был на поезд Париж-Москва. Но Вася сказал: «Поедем машиной до Кельна. Повидаем Бёлля».
Они познакомились еще весной 70-го года, когда Бёлль с женой был в Москве. Он обращался сперва к ней «фрау Гинзбург», потом «фрау Евгения», наконец просто «Эугения» или даже «Шенья». Она уверяла, что забыла немецкий, но достаточно свободно рассказывала о лагере, о немецких книгах, которые любила в детстве.
Тогда, в 1970 году, Евтушенко пригласил на ужин с Бёллем Аксенова, Ахмадулину, Вознесенского, Таню Слуцкую, Окуджаву, а также Евгению Семеновну и нас.
Потом на улице, пока Вася искал такси, Бёлль сказал:
— Это была встреча с молодыми… А ведь молодыми по-настоящему, wirklich jung я могу назвать только вас. И всех моложе вы, Женя.