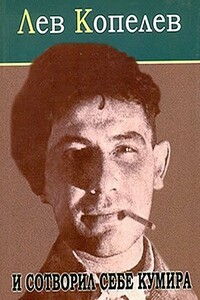— Никогда не думала, что над этими стихами кто-нибудь будет смеяться. А вот вы сейчас будете. Посмотрите, как они представляют нашу тюрьму.
На обложке рисунок. В окне — редкая, совсем не тюремная решетка, за ней — «сочинский» ландшафт. Светлая просторная камера.
— Ничего не понимают. И, должно быть, никогда не поймут…
Расспрашивает о переводчике Анатолии Гелескуле. Правда ли, что он собирается переводить Рильке?
— Дай Бог, теперь, может быть, наконец будет русский Рильке. Он и сам, конечно, пишет стихи. Вы их знаете?
Мы не знаем его стихов, кажется, он их никому не читает, не показывает. Она уверенно:
— Все будет, все придет. Он полубог, он все может. Передайте ему, что он самый первый класс…
Бродский прислал написанные в ссылке новые стихи.
— Я однажды призналась Бродскому в белой зависти. Читала его и думала: вот это ты должна была бы написать и вот это. Завидовала каждому слову, каждой рифме. Могла бы позавидовать и стихотворению «На смерть Элиота», но все же не так.
Мы рассказали ей о воспоминаниях Зинаиды Николаевны Пастернак, — мы оказались среди нескольких слушателей этих воспоминаний в Переделкине. История ее молодости, любви, семейной жизни. И неожиданно откровенные описания интимных отношений, подробные, будто ответы на вопросы у врача.
Мемуаристка старалась прежде всего доказать, что прообразом Лары, возлюбленной Юрия Живаго, была не Ольга Ивинская, а она — законная жена. И что Пастернак всегда оставался «настоящим советским человеком», «беспартийным большевиком». О Мандельштаме написано с нескрываемой неприязнью, как о назойливом попрошайке, который «подводил» Пастернака.
Анна Андреевна слушала раздраженно и сердилась не только на Зинаиду Николаевну, но и на Бориса Леонидовича.
— Обожествлял самых пошлых баб, особенно когда они мыли полы… И когда «Фауста» переводил, Гретхен получилась грубее, чем у Гете, такая же мещанка, как Зинаида Николаевна. Но теперь ее надо охранять. Если молодежь узнает, что она там пишет о Мандельштаме, то ее просто разорвут.
Упоминает о своей пьесе-трагедии. Мы не поняли, о той ли, которая была сожжена в Ташкенте, или о новой.
— Она шебуршится только в Комарове. А в других местах молчит.
«Шебуршится» — она восстанавливает сожженное или новый замысел?
В тот послеитальянский день она была оживленней, чем всегда.
Говорит о верстке «Бега времени»:
— Они опять перепутали строки в чистых листах. У меня просто предынфарктное состояние.
— Анна Андреевна, что же будет?
— Я послала телеграмму. Но они не посчитаются со мной. Они-то выйдут из положения: вклеят портрет Насера. Вы смеетесь, а надо плакать.
Но и сама смеется.
* * *
Л. Август шестьдесят пятого года. Мы с Генрихом Бёллем в Ленинграде. Он тогда работал над сценарием телефильма «Достоевский и Петербург».
Владимир Григорьевич Адмони и Тамара Исаковна Сильман предлагают повезти его к Ахматовой в Комарове. С утра я спешу рассказать Бёллю про Ахматову. Он очень внимательно слушает, переспрашивает. Я пытаюсь объяснить особенности ее поэзии. Из этого возникает вовсе «посторонний» разговор о том, почему в современной русской поэзии преобладают рифмованные мелодические стихи, а в немецкой они почти исчезли.
Приезжаем в Комарово. За деревьями маленький домик — «будка». Через застекленную террасу-пенал идем в комнату.
Анна Андреевна в нарядной шали, держится чопорнее, чем обычно, «принимает» иноземного гостя.
Нас много, едва умещаемся. Анна Андреевна говорит по-французски. Бёлль отвечает по-французски с трудом. Потом они переходят на английский, это ей нелегко. Тогда мы с Владимиром Григорьевичем становимся толмачами.
Оказывается, Бёлль читал ее стихи и по-немецки, и по-английски. Сказал, что ему немецкие переводы нравятся больше, чем английские. Немецкий язык по духу, по степени свободы ближе русскому, чем английский.
На обратном пути я упрекнул его: зачем он молча слушал мою «лекцию»? Он хитро улыбался: «Я услышал кое-что новое. А если бы я сказал, что знаю, ты перестал бы рассказывать, стал бы меня экзаменовать».
Кто-то говорит, что в этом году Нобелевская премия будет присуждена Ахматовой. Она царственно: «И хлопотно, и не нужно, и один швед сказал, что не дадут». Мы вопросительно глядим на Бёлля: «Кто знает, кто знает…»