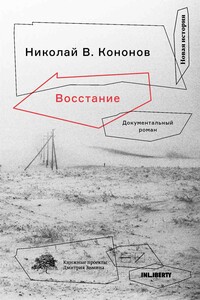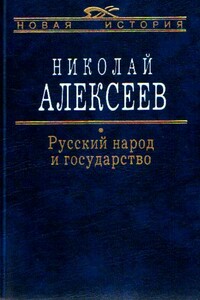Часть вторая
Соликамск — Красный Берег — Чуна
На следующий день с утра меня вывели за зону, посадили в машину с тремя автоматчиками, собакой и повезли в Соликамск. Сзади нас шла другая открытая машина, полная автоматчиков. Меня это обстоятельство тревожило до самого Соликамска. Где-то на окраине города они отстали.
В Соликамске, в старинном монастыре, приспособленном под тюрьму, просидел я в ожидании утверждения приговора Москвой четыре месяца. Ничего особенного за эти месяцы со мной не произошло. Время тягуче тянулось от подъема до отбоя и от пайки до пайки. И здесь я тоже находился в привилегированном положении — не в общей камере, а в тройнике. Но этот тройник из-за перегруженности тюрьмы уже не был тройником. В нем стояли три двухъярусные кровати. Но нас тут находилось не шесть человек, а одиннадцать. Иногда было и двенадцать. Кому не было кровати, тем давали деревянные щиты-топчаны на ночь. Их клали на цементный пол и спали. И ночью в нашем тройнике не было и пятачка свободного места.
К нам регулярно, раз в месяц, захаживал прокурор по надзору. Сокамерники мои указывали ему и начальнику тюрьмы на тесноту, что, мол, на полу приходится спать.
— Зачем камеру так набивать? — возмущались зэки и тыкали пальцами в правила, висящие в камере. — Тут же сказано, что каждый должен иметь спальное место. Где оно? У нас даже на пятерых, кто без кроватей, щитов-то всего три!
Но прокурору к такому не привыкать, на то он и прокурор. Ему об этом говорят в каждой камере и все время его службы. Он ободряюще-весело отвечает:
— О! У вас еще хорошо. В других камерах еще гуще! — И в этом мы ему верили.
— А закон!.. — выли зэки.
— Закон я не хуже вашего знаю. Вас сюда никто не звал, сами лезете. Я не виноват, и он тоже, — прокурор кивал на начальника тюрьмы, — что желающих попасть сюда больше, чем тюрьма может вместить.
Обычно тут долго не задерживались. Это была камера с уже осужденными, кто, как и я, ждал утверждения приговоров вышестоящими инстанциями. Не все зэки после суда пишут кассационные жалобы. Многие на это занятие смотрят иронически-скептически. Другие предпочитают побыстрее вырваться в лагерь из этой теснотищи и не задерживаться на лишний месяц из-за подачи кассационной жалобы. Без кассации обычно приговор утверждается в десять дней, самое большее в две недели.
Все, кто прошел через мою камеру, были судимы местными судами: районными или городскими, и их кассационные жалобы рассматривались в Перми областным судом. Обычный срок для этого — месяц. Меня же судила выездная сессия областного суда, и кассация должна была рассматриваться высшей инстанцией — Верховным судом РСФСР в Москве.
Сначала я не хотел никуда ничего писать. Но в последний день, когда истекал срок обжалования, я все же написал в Верховный суд РСФСР. Я не рассчитывал на то, что в Москве к моему делу отнесутся иначе, чем тут. Я считал как раз наоборот, что тут делали именно то, что требовали в Москве для меня. Написал же я с единственной целью — не дать возможности кому-либо истолковать мое нежелание обратиться с кассацией как мое согласие с решением суда, с приговором.
Я не мог спокойно писать о суде. Сам приговор, его содержание было издевательством над правосудием. Черное называлось белым и наоборот. «Да тебе-то что, — стыдил я иногда в мыслях самого себя, — впервые это видеть? Или ты был лучшего мнения о наших судах до этого приговора?» «Да нет же, — отвечал себе же на это. — Знал. Знал». И все равно бесился, видя эту демонстративную грубость, ложь и насилие.
* * *
Сам я уже который раз перечитывал копию приговора. Ложь, ложь и ложь!
Вся эта ложь подтверждается показаниями… и перечисляются фамилии этих лагерных Иуд, которые уже получили свои серебреники или ждут таковых. Среди них назван и свидетель Рыбалко. И это после позорной инсценировки опознания и даже после того, что на суде сам Рыбалко признался, что он действительно «ошибся», не опознал меня и указал на другого зэка.