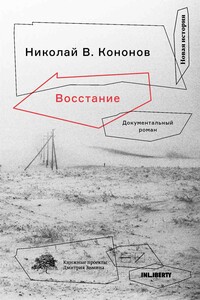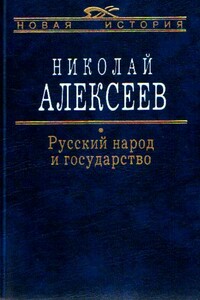Последнее время, раскусив до конца эти фокусы, она, как только ей предлагали уехать куда-нибудь в командировку, прямо спрашивала у своего начальства: это опять по линии ГБ? И ей отвечали очень красноречиво: «Вы же сами понимаете…»
На этот раз с приездом Никсона советская власть окончательно потеряла голову. И я это почувствовал на себе.
КГБ в силу каких-то неведомых мне соображений предпочитает вести переговоры со мной не непосредственно, а через посредников. Наверное, из-за моего отказа вообще общаться с этой организацией.
Вот ГБ и пытается высказать иногда мне свои пожелания, советы или прямые угрозы через друзей или знакомых.
Так произошло и на этот раз. Нашу приятельницу, наши отношения с которой хорошо известны госбезопасности, пригласили на беседу в КГБ. Не по повестке, нет. Запросто позвонили по домашнему телефону и предложили, вернее, попросили встретиться. И при встрече без предисловий велели передать мне, чтобы я на время пребывания Никсона уехал из Москвы.
Та же не обещала «повлиять» на меня, но согласилась передать мне это пожелание КГБ.
У меня не было никаких планов, которые я хотя бы косвенно связывал с пребыванием Никсона. Я не собирался ни восторгаться его приездом в нашу страну, ни возмущаться, ни тем более бросать в него цветы или бомбы или кидаться к нему с жалобой на советское правительство. Мы с Ларисой просто устали от непрерывных мотаний в поисках прописки и решили несколько дней отдохнуть. И мой ответ на предложения и советы КГБ был вполне естественной реакцией: пусть не суются и оставят меня в покое. Мое решение не уезжать из Москвы на эти дни вовсе не было противостоянием наглости КГБ. Решено это было мной еще задолго до «советов» из КГБ; мало ли чего это учреждение потребует или посоветует нам делать или не делать завтра.
Но на нашу приятельницу здорово наседали, еще несколько раз встречались и звонили по телефону все с той же целью: повлияйте, пусть уедут. При последней встрече с КГБ ей даже откровенно сказали, как бы даже с обидой на мою неблагодарность:
— Ведь мы же знали все это время, что Марченко находится в Москве. Мы даже не мешали ему лечь в больницу и лечиться. А сейчас от него всего-то ведь нужно, чтобы он уехал на время пребывания Никсона.
Вот, оказывается, и КГБ способен на гуманные акты по отношению даже к таким несимпатизирующим этой организации лицам, как я.
А ведь и в самом деле, могли и не дать мне лечь в больницу. Могли в первый же день по прибытии из Джамбула выставить меня из Москвы. Все могли. Так что и у меня, а не только у А. Чаковского, есть основания сказать доброе слово о КГБ.
Это напоминает мне где-то прочитанное или слышанное. Сидит человек на лавочке, никому не мешает. Мимо проходит прохожий. Человек вскакивает с лавочки, догоняет и рассыпается перед ним в благодарностях. Тот спрашивает в недоумении:
— Помилуйте, за что?
— Ну как же за что, — отвечает тот, — за то, что в морду не заехали мне!
— Но за что же я вам мог такое сделать? — недоумевает прохожий.
— Но ведь могли же! Могли! И не съездили!
Вот так и строятся наши отношения с советской властью. Ведь все может! Все!
А тут еще и друзья некоторые стали тоже советовать: да уезжайте вы с Ларисой куда-нибудь на эти дни, не дразните понапрасну «Софью Власьевну». Сами не уедете — схватят на улице или заберут из дома и будете отсиживать за хулиганство, как все евреи, в камере.
Но мы решили с Ларисой не менять своих планов и вести себя независимо ни от желаний ГБ, ни от наличия в Москве Никсона.
Конечно, имея такие резкие предупреждения от ГБ, мы готовы были ко всему.
А ГБ меж тем, как говорится, не слезала с телефона нашей приятельницы, настаивая на нашем отъезде из Москвы. Та им передала наше с Ларисой мнение на этот счет.
И вот с ней снова договариваются о встрече для беседы. Во время этой встречи ей высказывают неудовольствие моим поведением и снова упреки: мы же ему не мешали и т. п…
Она, в свою очередь, возмутилась тем, что мне чинят препятствия с пропиской и нигде не прописывают. Представитель КГБ, беседовавший с ней, удивился этому и поинтересовался: