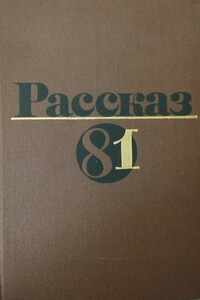Хорошо помню, что на Арбате в тот поздний вечер пахло настоящей осенью — первым холодом и кислым вином. А спустя месяца два, под Новый год, я встретил в Художественном проезде свою приятельницу-студийку. Мы стояли посреди рождественской сутолоки, елок, бутылок шампанского, бесконечных свертков и пакетов и говорили друг другу предпраздничные, необязательные слова.
— Да, — воскликнула вдруг моя знакомая, — чуть не забыла, тебе привет!
— От кого? — удивился я, стараясь припомнить кого-либо из наших с нею общих знакомых.
— Тебе большой привет, — со значением повторила моя приятельница, — от Наташи Рязанцевой.
В одну секунду мне сделалось жарко, словно после долгого бега или мальчишеской возни с приятелями. Кажется, я пожимал плечами и улыбался с нарочитым, показным недоумением, стараясь скрыть свое волнение, равного которому я еще не испытывал никогда в жизни. Гриппозным жаром дышали мои щеки, я не понимал, что со мною творится, и вместе с тем с необычайной трезвостью осознавал смысл явлений, ранее темных для меня и неведомых. Естественная логическая линия увязывала эти явления, эти образы и картины, которые сами собой выплывали из глубин моей памяти, в одну безупречную, очевидную систему, — было страшно и сладостно подумать о том, что являлось сутью этого построения. Во всяком случае, задним умом я с очевидностью прозрения понял, почему так часто встречал Наташу возле ворот своего дома, отчего смотрела она на меня с отчаянием и удивлением курсистки-народоволки. Мне трудно было во все это поверить, но не поверить было нельзя. Моя бывшая однокурсница давно уже с улыбкой упорхнула, оставив меня одного посреди переулка, я забыл, куда и зачем шел, и как жить дальше, тоже не понимал. Я не был готов к счастью, оно меня подавило, распластало, как внезапное богатство, с которым решительно неизвестно, что делать. Оно и радует, и ужасает своими размерами, оно поднимает тебя в собственных глазах и одновременно пробуждает в душе неизвестную ранее тревогу, отныне ты раб своей фортуны.
Наконец мне стало ясно — сам с собой я не переживу этой вести. И прямым ходом побежал к Мише. Он жил тогда вместе с родителями в большой, многонаселенной коммуналке, им принадлежали две просторные комнаты, хитроумно перепланированные и перегороженные так, что получилась как бы квартира в квартире. Во всяком случае, у Миши со школьных лет был свой собственный угол, недурной и по нынешним временам, там стояли низкая тахта, крытая толстым ковром, застекленный книжный шкаф во всю стену и письменный стол департаментского вида, доставшийся Мише от двоюродного деда, известного в Москве присяжного поверенного. Классицизм обстановки мой друг уравновесил зримыми приметами эпохи — магнитофоном «Яуза», боксерскими перчатками, коробками из-под иностранных сигарет, флажками разных стран, украденными из кафе «Националь».
Мишу я застал за делом — накануне Нового года он чинил, вернее, усовершенствовал свой магнитофон, поставив себе целью довести до легендарного японского уровня. Я присел рядом на тахту, и Миша, погруженный в дрожащие, мигающие внутренности музыкального ящика, вооруженный паяльником, кусачками, плоскогубцами, сосредоточенный и необычайно серьезный, благосклонно согласился меня выслушать. А я вдруг понял, что не знаю, о чем рассказывать, в чем, так сказать, казус, сюжет, анекдот моей истории, — буря сотрясающих меня чувств никак не умещалась в слова. Я запинался, делал многозначительные паузы, тянул резину, ситуация, которая казалась ошеломляющей, громоподобной, в моем пересказе, в самом первом своем словесном оформлении, выглядела вполне заурядно.
Миша, однако, не перебивал меня, не подгонял, он даже на меня не глядел, занятый радиотехникой, и напевал что-то под нос, по обыкновению очень фальшиво. Потом, обратив наконец внимание на то, что события иссякли и я уже давно умолк, он вдруг посмотрел на меня внимательно, как будто проверяя, стоило ли отрываться от дела, и сказал:
— Старик, я ведь все это давно знаю. Не понимаю, чем ты так поражен, я ведь сто раз тебе обо всем этом рассказывал.