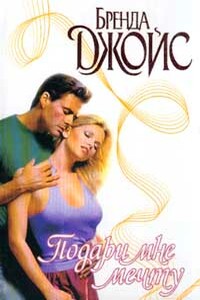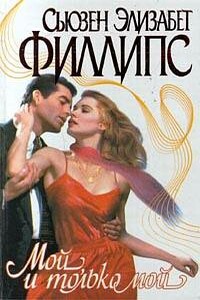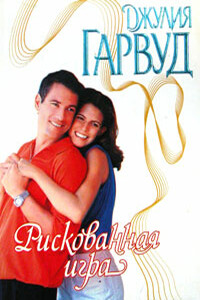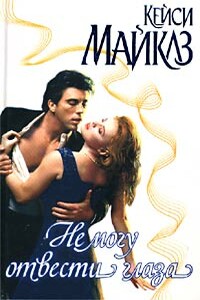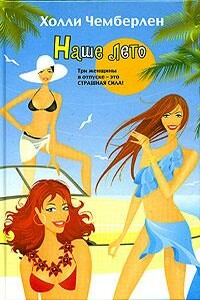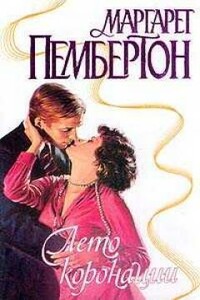Элли! Ты привлекла меня сразу, как только зарегистрировалась в группе любителей блюзов. Никто не в состоянии так почувствовать душу музыканта и ту власть, которой он обладает. Ничего, если я попрошу разрешения прочитать твою книгу первым? Я умираю от желания увидеть, что ты сделала.
Увидимся утром, дорогая!
Он улыбнулся и мысленно сам себя похлопал по спине за то, что был таким понятливым и позволил ей заняться работой. А потом, не в состоянии прекратить свой разговор с ней, открыл второе "окно".
P.S. Что мне действительно хотелось бы сейчас делать, вместе того чтобы печатать в темноте и пить бурбон, злясь на идиотов, засевших в Интернете (неужели у них нет своей жизни?), так это целовать тебя.
Я бы хотел услышать стук в дверь, и ты бы стояла там обнаженная, а я бы открыл дверь тоже обнаженным, а потом я бы хотел — ну, я уверен, что ты можешь себе представить все остальное.
До завтра, сладкая моя.
Он отослал почту, потом подошел к окну. Сквозь пелену дождя было видно, что в домике горит свет. Ему не хватало ее. Он хотел ее. Его жизнь, вполне приемлемая до ее появления, стала пустой и скучной без нее. Пайкет потерлась о его щиколотки, и он поднял ее, рассеянно гладя худую спинку и мысленно составляя предложение, которое он сделает Элли, — ведь это должно быть что-то красивое и романтическое. Что-то, что заставит ее задохнуться и прослезиться, о чем она сможет потом много лет рассказывать своим подругам. Мысленно он представил все это — внучку с глазами Элли, которая говорит: "Мой дедушка — самый большой романтик в мире".
О да!
Элли все еще занималась книгой, когда над деревьями на востоке показалось солнце, сначала освещая небо мягким пурпуром, который становился все светлее и наконец разлился алой волной. Она поморгала и расправила плечи, сообразив, что не спала всю ночь.
Но какую ночь! Она ощущала напряженность в плечах из-за того, что долго писала, в глазах был песок, но чувствовалось и какое-то беспокойное радостное волнение. Она взглянула на стол, заваленный кипами бумаг, и у нее закружилась голова.
Наконец-то, наконец-то ночью к ней приходила Мейбл! Элли включала одну и ту же песню снова и снова, ту, что Мейбл написала, а потом исполнила таким горьким полушепотом, который всегда нравился Элли, "Сердца и души", балладу об утраченной любви, наверняка написанную для Персика. И именно Блю заставил Элли до конца понять эту песню. С его соблазнительным ртом и потерянной душой — что за неотразимое сочетание! Мейбл, по рассказу Гвен, должна была испытывать то же самое к Персику, но в отличие от Элли она верила, что это настоящая и верная любовь. Блю, наверное, сейчас спит. Было легко представить его, запутавшегося в смятых простынях, его длинные руки и ноги и гладкую кожу, его опасный рот полуоткрыт, а потерянная душа скрыта, как всегда, под защитой его нервной красоты.
Она чувствовала, что проделала сегодня очень большую работу, и в эти тихие, долгие ночные часы, когда весь остальной мир спал, Мейбл ожила на страницах ее книги. Но оставались еще вопросы. Элли выяснила, почему Мейбл исчезла — это был способ искупить вину. Из-за того, что она совершила такой тяжкий грех, ей пришлось отказаться от того, что она любила больше всего, — от своей музыки.
Раздеваясь, Элли думала о сыне Мейбл. Немногие женщины смогли бы уйти от ребенка. И по свидетельству знавших Мейбл, она очень любила детей. Было непонятно, как она оставила своего сына бабушке и исчезла. Элли устало присела на край кровати, ее мысли стали повторяться и преследовать одна другую, словно белочки, по кругу. Все, достаточно. Она опустила жалюзи, чтобы затемнить комнату, и упала на покрывало.
Она проснулась через несколько минут — или часов? — оттого, что кто-то стучал в дверь. Элли слышала, как снаружи хлещет ливень, стуча по крыше и окнам, и, одурманенная, решила, что ее разбудил гром. Но нет. Стук, очень четкий, раздался снова.
— Минутку, — ответила она, когда стало понятно, что гость не уйдет.
Она посмотрела в потолок, старательно моргая, потом сбросила ноги с кровати, нашла халатик и прошлепала к двери. Взглянула мимоходом на часы — тринадцать десять.