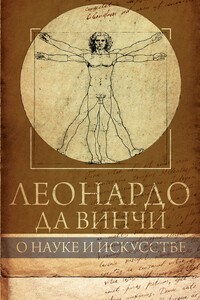В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я…»
Комментаторы в один голос утверждают, что, при всех расхождениях с действительностью (не 1–2 тысячи жителей, а гораздо больше, не две церкви, а одна, и еще мечети есть, и так далее), «городок» этот — Семипалатинск, и наверняка они правы. Как известно, освободившись с каторги в 1854 году, Достоевский именно сюда был определен рядовым Сибирского Седьмого линейного батальона и уволен в отставку в чине прапорщика лишь пять лет спустя, без права проживания в столицах империи. И здесь же были начаты и закончены «Записки из Мертвого дома», о замысле которых он сначала упоминает в письме к Аполлону Майкову от 18 января 1856 года, потом читает уже написанные главы П. П. Семенову-Тян-Шанскому (в Барнауле, где они встретились год спустя) и, наконец, совсем незадолго до отъезда сообщает брату Михаилу: «Эти «Записки из Мертвого дома» приняли теперь, в голове моей, план полный и определенный. Это будет книжка листов в 6 или 7 печатных. Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного; но за интерес я ручаюсь. Интерес будет капитальнейший».
Вот тут как раз самое время напомнить о композиции книги и о том душевном состоянии, в котором пребывал, подступаясь к ней, Достоевский. Композиция — несколько вступительных страниц от автора, и далее — текст оказавшейся у него рукописи покойного Александра Петровича Горянчикова, «поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем». И сразу же возникает острый контраст: вполне довольный собой и, главное, теплый и веселый городок К. — и оцепеневшая, заживо похороненная жизнь в Мертвом доме, общим описанием которого и начинается рукопись.
«Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли чего-нибудь? — и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу расхаживают часовые…» Здесь все не так, как на воле. Там — полет, здесь — забор, там разомкнутая перспектива улицы, здесь — всегда замкнутые ворота, там — небо, здесь — только краешек.
Таков, стало быть, литературный прием. Но он подкреплен еще и иной реальностью — душевной. Впервые с того самого момента, как 23 апреля 1849 года очутился он в одиночке Алексеевского равелина, Достоевский глотнул вольного воздуха. Что же удивительного в том, что невзрачный и пыльный городок чуть ли не садом ему показался, а главное — никаких стен, свободная даль расстилается во все стороны. Какой-то месяц назад, в феврале 1854 года, он писал брату: «Омск гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видал. Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени». Да ничего подобного: и расположен Омск очень красиво, на слиянии Иртыша и речки Оми, и зноя угнетающего нет, а зелени, наоборот, немало, и жизнь течет небезынтересно, но только ничего этого каторжанин действительно не видит, и физически и, главное, внутренним взором: «…кандалы и полное стеснение духа, и вот образ моего житья-бытья». Но уже 27 марта, в первом же письме из Семипалатинска, направленном по тому же адресу в Петербург, говорится так: «Покамест я занимаюсь службой, хожу на ученье и припоминаю старое. Здоровье мое довольно хорошо, и в эти два месяца много поправилось; вот что значит выйти из тесноты, духоты и тяжкой неволи. Климат здесь довольно здоров. Здесь уже начало киргизской степи. Город довольно большой и людный, азиатов множество. Степь открыта. Лето длинное и горячее, зима короче, чем в Тобольске и Омске, но суровая. Растительности решительно никакой, ни деревца — чистая степь. В нескольких верстах от города бор, на многие десятки, а может быть, и сотни верст. Здесь все ель, сосна да ветла, других деревьев нету. Дичи тьма. Порядочно торгуют, но европейские предметы так дороги, что приступу нет. Когда-нибудь я напишу тебе о Семипалатинске подробнее. Это стоит того».