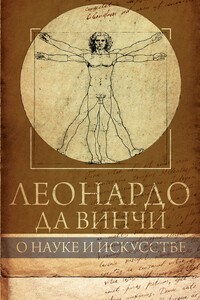Тут завязывается тугой узел, тут образуется источник будущих бед. Говорить об этом сложно, хотя бы потому, что, как заметил один очень просвещенный человек, стоит только прикоснуться к национальному вопросу, как непременно какую-нибудь глупость ляпнешь. Сложно, но уйти некуда, прежде всего потому, что для героя нашего этот вопрос очень скоро окажется не «вопросом», а проклятием всей судьбы. Ну а помимо того, никак не успокоятся наши государственники — «патриоты», с их воинственной ностальгией по былому имперскому величию России.
Семипалатинск развивался как город космополитический. Поначалу здесь в основном оседали русские военные и «поселенцы», то есть ссыльные и татары, причем те и другие в своих слободках, но постепенно промежутки застраивались и границы стирались. Потом на постоянное поселение пришли казахи, и китайцы, и калмыки, и узбеки, словом, разноплеменный люд. Взаимоотношения колонистов и коренного населения складывались неплохо, по-видимому, на основе общего интереса. Более того, в 1760 году султан Среднего жуза Абулфаиз отправил в Петербург послов с просьбой принять его в русское подданство и дать разрешение вести торговлю в Семипалатинской крепости, каковое и было получено. Вскоре после этого сюда потянулись многочисленные кочевки Абулфаиза, а по прошествии недолгого времени в долинах рек Кылшакти и Шаркураган, расположились аулы Аблая-хана. Как водится, местная бюрократия ставила палки в колеса — первым казахским племенам, появившимся близ Иртыша, не только реку переходить воспрещалось, но и приближаться к ней больше чем на десять верст. Опять-таки нечто вроде черты оседлости. Однако это препятствовало нормальной торговле и играло на руку джунгарам, чьи позиции в степи правительство всячески пыталось ослабить. В результате появилось распоряжение царицы Екатерины, адресованное сибирскому генерал-губернатору: «Видев из рапортов, присланных от Вас генерал-прокурору князю Вяземскому, что некоторые из султанов и старшин киргиз-кайсацкой орды, при тогдашнем наблюдении ими доброго поведения, исполнении безоговорочно приказаний линейных начальников и ненарушенном сохранении верности и усердия к нам, изъявляют желание к переселению из дальних степей во внутреннюю российскую сторону, и по сему случаю предписываем Вам прошения объявленных киргизских старшин удовлетворять, наблюдая только, чтобы оные переведенцы поселены были в весьма близком один от другого расстоянии». Со своей стороны Аблай-хан поступил весьма дальновидно и мудро, согласившись с сюзеренитетом Циньского богдыхана при сохранении российского подданства. И волки сыты, и овцы целы: Аблай-хан добился того, что и Екатерина Великая, и Циньский двор признали его полновластным главою Среднего жуза. На то она и политика — искусство возможного, живи и жить давай другим. Так оно и продолжалось на протяжении почти всего XIX столетия, имперская власть сотрудничала с властью местной, мурзы, баи, бии кое-как договаривались с русским чиновничеством всякого разряда и охраняли друг друга: русские воинские команды сопровождали казахские караваны, казахи обеспечивали беспрепятственный проход через степные кочевья русских караванов. Иное дело, что, допуская туземцев к участию в рыночных делах, проливать на них свет знания власть не торопилась. Да, открывались новые школы и уездные училища, но в целях вполне близлежащих. Как бесхитростно гласит один документ 30-х годов позапрошлого века, «дети жителей, не получая достаточного образования, не могут обращаться даже к простым работам». Надо, следовательно, чтобы такая возможность была. Просветительские же усилия политических ссыльных, например Е. П. Михаэлиса, сыгравшего значительную роль в духовном становлении Абая, А. А. Леонтьева, Н. Я. Коншина, Северина Гросса и других польских активистов, оказавшихся в Сибири после поражения восстания 1863 года, значение, конечно, имели, и немалое, однако же по понятным причинам размаха приобрести не могли. Впрочем, даже и такая деятельность сильно настораживала власти. Скажем, в какой-то момент Абаю, чье имя уже громко звучало в степи, стали чинить прямые препятствия в общении с этими юными радикалами, которые могли через него оказать нежелательное воздействие на местные настроения и нравы. «Семипалатинский военный губернатор, — вспоминает дочь Михаэлиса М. Хотимская, — запретил им встречаться с Абаем, опасным и вредным для царизма человеком, над которым был уже установлен тайный политический надзор. Отец рассказал о том, как ссыльных — друзей Абая — после обыска у него в ауле выслали из Семипалатинска в отдаленные уезды и области».