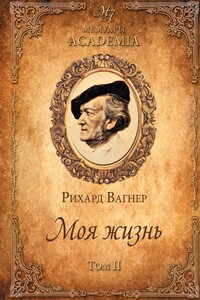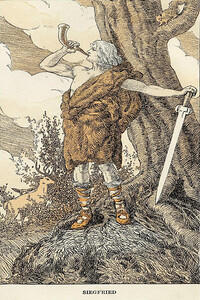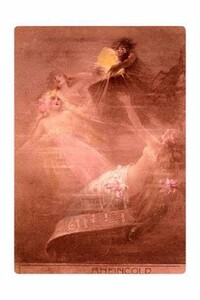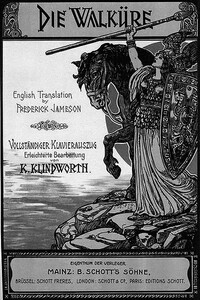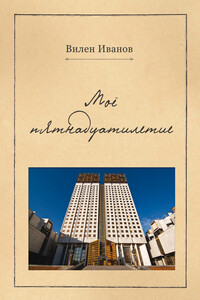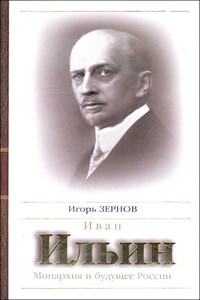Моя жизнь. Том I - страница 25
Весь переполненный Крейслером, Креспелем[113] и другими им подобными музыкальными образами моего любимого писателя, я, к величайшему моему счастью, нашел и в самой жизни образец человеческой оригинальности: этот идеальный музыкант, в котором я открыл, по меньшей мере, второго Крейслера и к которому я восторженно привязался, был некто Флакс [Flachs]. Этого длинного, необыкновенно худощавого человека, с удивительно узкой головой и в высшей степени необыкновенной манерой ходить, двигаться, и говорить, я неизменно встречал на всех садовых концертах, бывших для меня главным источником музыкального образования. Он всегда был возле оркестра, заговаривал с удивительной стремительностью то с одним, то с другим из музыкантов, с которыми он был знаком и которые к нему, по-видимому, хорошо относились. Что они все над ним потешались, об этом мне пришлось узнать, к стыду моему, много позднее. Я вспоминал, что уже давно видел эту странную фигуру в Дрездене: и действительно, прислушиваясь к разговорам, я убедился, что он был хорошо знаком со всеми дрезденскими музыкантами. Уже это одно крайне заинтересовало меня в нем. Но особенно подкупили меня и увлекли наблюдения, которые я делал над ним, когда он слушал музыку: он своеобразно и конвульсивно кивал головой и раздувал, как бы вздыхая, щеки. Во всем этом я видел выражение демонического экстаза. И так как я, сверх того, заметил, что он совсем одинок, абсолютно не тяготеет ни к какому обществу и единственно следит в саду за ходом музыки, то я стал, естественно, отождествлять этого удивительного человека с капельмейстером Крейслером.
Мне захотелось непременно познакомиться с ним, и это мне удалось. Невозможно описать мое блаженство, когда я, впервые посетив его, нашел у него дома невероятные груды партитур! До этого я еще никогда не видал ни одной партитуры. К моему огорчению, я узнал, что у него не было ничего из творений Бетховена, Моцарта и Вебера. Было, напротив, огромное количество творений, месс и кантат совершенно мне незнакомых композиторов, таких как Штеркель[114], Штамиц[115], Штейбельт[116] и др. Но Флакс рассказывал о них столько хорошего, что почтение, которое вызывали во мне вообще партитуры, помогло мне справиться с известным сомнением, вызванным отсутствием моих любимых мастеров. Впоследствии я, конечно, узнал, что Флакс был просто жертвой в руках разных бессовестных спекулянтов, продававших ему всю эту никуда не годную музыкальную макулатуру за большие деньги. Короче говоря: это были партитуры, и этого было для меня достаточно!
Флакс стал моим лучшим приятелем. Везде можно было встретить шестнадцатилетнего тщедушного юношу вместе с этим странно раскачивающимся на ходу долговязым человеком. Он часто посещал меня, и в одинокой нашей квартире за бутербродами с сыром был принужден слушать мою игру на фортепьяно. Однажды он аранжировал мою арию для духовых инструментов, которую потом, к величайшему моему изумлению, я услышал в исполнении оркестра Швейцарской хижины[117] [в Лейпциге]. Мне совершенно не приходило в голову, что у этого человека я ничему полезному научиться не могу. Я так твердо верил в его оригинальность, что с меня достаточно было, если он терпеливо выслушивал мои полные энтузиазма излияния. Когда затем к нашему обществу присоединилось несколько знакомых моего приятеля, я не мог не заметить, что на моего доброго Флакса весь мир смотрит просто как на человека ограниченного, как на дурака. Сначала это возбуждало во мне лишь грустное чувство, пока одно удивительное событие не заставило меня внезапно изменить свое мнение и примкнуть к мнению других.