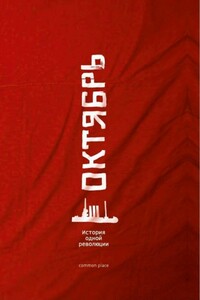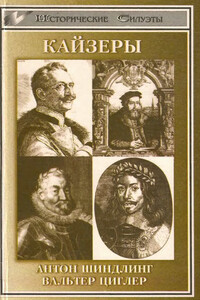Несколько дней спустя я получил от Кестнера письмо. В конверте был факсимильный оттиск его нового, совершенно безобидного стихотворения на случай, озаглавленного «Поздравителям». Оно заканчивается словами: «Тронут. Но живу в надежде, / Что сумею жить как прежде». Очевидно, он хотел добавить еще что-то личное, потому и написал под стихотворением: «Дорогой специалист, “Мампе” — премилый ресторан, а мы — славные люди. Ваш Кестнер».
29 июля 1974 года — в то время я уже руководил отделом литературы в газете «Франкфуртер альгемайне» — наш немолодой курьер принес мне сообщение агентства ДПА, которое он, всем своим видом выражая покорность судьбе, положил на стол с обычным комментарием: «Вот вам еще труп». Я быстро прочитал, что немецкий поэт Эрих Кестнер умер в мюнхенской больнице. Как всегда в таких случаях, я сначала посмотрел на часы: да, некролог будет готов еще до подписания номера в печать. Но сделать это надо быстро. Прежде чем начать писать, я позвонил той, которая в 1941 году переписывала в Варшавском гетто его стихотворения. Она реагировала одним-единственным словом: «Нет!» Затем наступила полная тишина. Насколько я помню, мои глаза увлажнились — и ее наверняка тоже.
В 1998 году автор и издатель Михаэль Крюгер обратился к нам — к Тосе и ко мне — с необычной просьбой — издать вместе с ним том лирики Кестнера. Тосе надлежало отобрать стихи, мне — написать послесловие. Мы охотно выполнили это пожелание. Книгу мы назвали, используя слова самого Кестнера, «Употреблять для души».
ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД ПИСЬМЕНАМИ
Мы, ученики реальной гимназии имени Вернера фон Сименса в Берлин-Шёнеберге, сразу же заметили, сразу же почувствовали наступление национал-социалистского господства, хотя и ощутили происшедшее несколько странным образом. Утром 28 февраля 1933 года мы, четвероклассники, как обычно во время большой перемены, около десяти часов играли в игру, которую называли «лаптой», хотя с настоящей лаптой она имела мало что общего. Вместо мяча мы использовали искусно свернутый комок пергамента, который называли «пилюлей». Мы едва обратили внимание на то, что старшеклассники, собравшись группами во дворе, взволнованно переговаривались.
Только когда закончилась перемена и один из учителей, встав у дверей класса, резким тоном приказал собраться в актовом зале, мы поняли, что произошло нечто необычное. Или предстояло? Директор школы, спокойный человек, говорил с нами серьезно, без какого-либо пафоса. Он информировал собравшихся школьников о том, что рейхстаг загорелся этой ночью и, вероятно, продолжает гореть. Это не стало для меня новостью — то ли в пять, то ли в шесть утра телефонный звонок разбудил всю нашу квартиру, чего еще никогда не бывало. Мой дядя Макс, адвокат по патентным делам, человек жизнерадостный и живой и при этом легко раздражавшийся, постоянно с нетерпением ждавший новостей, прежде всего таких, которые касались Гитлера и нацистов, едва мог владеть собой. Он испытывал настоятельную потребность сейчас же поделиться с нами сенсационной информацией. И заключалась она в словах «Нацисты подожгли рейхстаг», а не, скажем, «Рейхстаг горит».
В краткой речи директора содержалось, пусть и в косвенной форме, то же утверждение. Он сказал: «Я запрещаю всем учащимся говорить, что рейхстаг подожгли национал-социалисты». Многие школьники навострили уши. Этот-то запрет и натолкнул их на мысль, до которой они при других обстоятельствах, вероятно, никогда бы не додумались. Почему наш директор сказал это? Был ли он глуповат и простодушен или хотел нас спровоцировать? Во всяком случае, после этого мы видели его не слишком часто. Директор вскоре исчез из школы, как говорили, по политическим причинам. Временами все происходило именно так просто.
Дух, насаждавшийся новыми властителями, не сразу почувствовался в преподавании. Но подчас происходило и такое, что было немыслимо до 1933 года. Во время игры в волейбол ученику Р. показалось, что его толкнул ученик Л. Это были два отличных игрока, только один — руководитель школьной организации гитлерюгенда, другой — еврей. В пылу спортивной битвы Р. рявкнул на Л.: «Ты, грязный еврей!» Такие ругательства тогда, в 1934 году, еще не стали обычным делом. Так этот случай превратился в небольшой скандал.