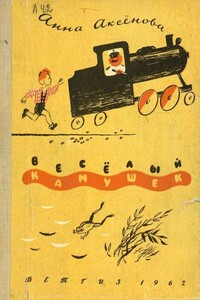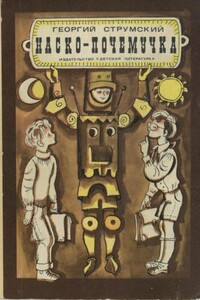«Пропал», — подумал я, бросил кнут и вильнул в дубняк.
Одна из коров, задрав хвост, пронеслась совсем близко от меня. Я подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку толстого дуба и полез на него со веем проворством, на какое был способен.
Отсюда я и увидел подошедшего Турбая: обеими руками он держал панаму, полную черешни.
— О! — удивился он. — Ты чого?
— Физкультурой… хочу заняться, — еще не совсем отдышавшись, ответил я, сидя верхом на толстом суку. — Ты умеешь?
Митька покачал отрицательно головой и с любопытством уставился на меня. Он, наверно, ожидал, что ж сейчас начну показывать разные трюки и акробатические номера. Я спросил как мог равнодушней:
— Что это с коровами? Сбесились?
— Бзык напал, — Митька лениво оглянулся на стадо. — Овода испугались. У скотины от овода червячок под кожей заводится, а тут еще жарынь…
Две коровы и Махно, пиками выставив рога, неслись прямо к нашему дубу. Митька неторопливо разобрал пеньковый кнут и ловко и звонко щелкнул перед самым их носом. Скотина удивленно остановилась, точно увидела стену; мой напарник завернул стадо, отогнал в лес под тень листвы.
Я слез с дуба. Чтобы доказать Митьке свою любовь к физкультуре, попробовал стать на голову, но свалился.
От колонии донесся лязг железного рельса: звонили на обед. Когда мы гнали стадо обратно, я издали деликатно помахивал на коров пастушьим кнутом, а с быком Махно вообще избегал встреч: пускай забегает куда хочет.
Недели две спустя, собираясь заутра на выгон, я почувствовал зябкую дрожь. «Неужели боюсь?» — подумал я, стараясь приосаниться. Но зубы стучали так, словно меня кто тряс за шиворот. Сильно ломило глаза, думать ни о чем не хотелось: только бы согреться. От слабости я вынужден был прилечь на кровать. Колонисты позвали воспитателя.
— У хлопца жар, — сказал Михаил Антоныч, потрогав мой лоб. — Турбай, сходи в амбулаторию за Дорой Моисеевной.
Докторша пришла в том же джемпере, который делал ее похожей на пчелу. Я теперь знал, что она жена заведующего колонией Эдуарда Ивановича Салатко, с ним переехала сюда из Киева. Дора Моисеевна поставила мне термометр, расспросила про больной зуб к осталась довольна, что нерв меня больше не беспокоит.
— Ого! — сказала докторша, вынув у меня из-под мышки градусник. Простудился ты, Боря. Температура около сорока. Наверное, воспаление легких. И как это ты умудрился летом простыть?
Дора Моисеевна дала мне аспирину и освободила от работы. Я задремал, а проснулся весь в липком поту, сбросил вытертое одеяло, дернул ворот рубахи: меня томило от духоты.
Однако на другой день встал я, как всегда, легко, с увлечением играл в крокет, неумело выкручивался на турнике и лишь чувствовал металлический привкус во рту. За ужином воспитатель смотрел на меня хмуро, подозрительно и опять назначил пасти стадо. А утром ногти у меня снова посинели, кожа покрылась пупырышками, как у старого гусака, и на ней дыбом поднялись волоски; колонисты навалили на меня все одеяла, какие были в палате, тюфяк — я дрожал вместе с кроватью.
— Странно, — пробормотала докторша. — Впервые встречаюсь с такой непонятной хворью. У тебя это Боря, не от желудка? Какой у тебя стул? Нормальный? Ничего не пойму. Ведь я сама не терапевт… у меня другая специальность. Сейчас я посмотрю по медицинскому справочнику, и, если не сумею установить диагноз, тебя придется на подводе отправить в Киев, в амбулаторию, пусть там… Постойте, постойте, а может, это малярия? — радостно вскричала она. — Ну конечно же, малярия, как я об этом не подумала раньше.
И докторша посмотрела на меня с таким видом точно и я тоже должен был обрадоваться, что заболел именно малярией.
— Хворь противная, и, насколько мне известно, радикальные средства для ее лечения еще не открыты — продолжала она со счастливым оживлением. — Все что я могу сделать, — это дать Новикову хинин. Кажется еще… малярикам нельзя гулять после захода солнца на улице… Вчера ты себя хорошо чувствовал, Боря? Значит, трепать будет, через день.
Воспитатель сказал, что в таком случае через день я буду и скотину пасти. Я вспомнил коровий «бзык», бугая Махно, пробормотал: