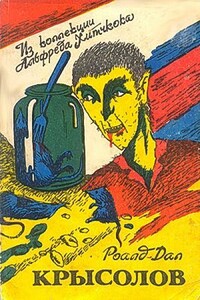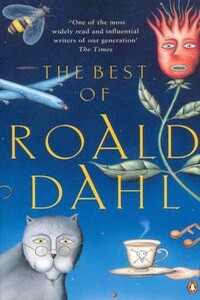Она выходила отсюда всего три раза. Она говорит это как будто в упрек.
Но, мама, ты же не можешь стоять.
Она не это имела в виду. И я понимаю, но не показываю вида. Здесь она больше не хозяйка своей жизни. Люди вокруг нее приходят и уходят.
Она остается с медсестрой. Медсестра не отходит от нее ни на шаг, она даже больше ванну не принимает. Медсестра ее моет, поливает из душа. Ей так нравилось принимать ванну по утрам, это было настоящее удовольствие. Даже этого у нее не осталось.
Сегодня ей не хочется принимать душ, ее это утомляет.
Говорю ей, примешь завтра, ты всё равно не грязная.
Но сестра хочет, чтобы она приняла душ и не сидела в халате. Так будет лучше.
Сестра не выносит, когда мать сидит в халате. К тому же халат перекошен из-за ее сломанного плеча.
Не знаю почему, но в халате ее сломанное плечо больше бросается в глаза. И когда я спрашиваю у сестры, что будем делать с плечом, она говорит, ничего уже не сделаешь. Не говори об этом, она больше о нем не думает. Ей будут помогать одеваться, это не так страшно. Не так страшно, но что тогда страшно? В конце концов, люди живут и со сломанным плечом. Едят, спят.
Даже с разбитым сердцем, деформированными руками, со всем этим живут люди.
Ты знаешь, она мной командует, говорит мать, я не могу делать то, что мне нравится, она злится на меня, твоя сестра.
Ты знаешь, я ем, даже часто. Да, тебе лучше, лучше, чем месяц назад, говорю я.
Нужно время, ты была очень больна, но теперь поправляешься, уже поправилась.
И мне уже хочется уехать, как обычно, а сейчас уехать – значит, вернуться в Гарлем.
Однако с тех пор, как мы с С. живем в Гарлеме, я не написала ни строчки. Тогда зачем возвращаться? Я не говорю, ни что С. мешает мне писать, ни что я мешаю ей, ей надо целую книгу написать, но когда мы вместе, что-то в нас нам мешает.
Притом что каждая хотела, чтобы другая писала и была счастлива. Но всё происходит наоборот. Я даже заметки больше не делаю. И единственное, что мне приходит в голову записать, но я не записываю, это то, что я стала хуже слышать высокие звуки и иногда не всё понимаю.
Я угодила в сеть, которая каждый день сжимается вокруг меня, и чем больше она сжимается, тем меньше любви.
Возможно, однажды я спрошу себя, где эта сеть, и мне будет ее не хватать.
Надеюсь, что нет, но никогда не знаешь заранее. Я привыкла строить себе тюрьмы. И если это – еще одна тюрьма, то почему бы мне потом по ней не скучать. Одна тюрьма, другая – какая разница. Но эту я ощущала сильнее, чем другие, которые были мне привычны.
А всё так хорошо начиналось. Я даже однажды сказала ей, что счастлива.
Теперь я пытаюсь ей сказать, выпусти меня из этой сети, дай мне дышать, ты причиняешь нам боль. Я хочу порвать с ней, не знаю как. Я прихожу, ухожу, прячусь, вру. Очевидно, после я не помню, что говорила, но она помнит. Она помнит, она всё помнит, что я говорила, и всё остальное. Каждое слово, каждое дыхание, каждое молчание, каждый раз, когда я опускала голову и когда отворачивалась, каждое «не знаю, почему-то не спится», «не знаю, но я проснулась в слезах». И я говорю ей, что это правда, я не знаю. И часть меня говорит, что правда, а часть не знает, в любом случае, знает не до конца.
И она со своей безупречной памятью сказала мне, ты говорила мне на прошлой неделе (во вторник), что ты знаешь, почему больше не спишь. Больше не знаю, ответила я. Не знаю, что я сказала.
Она мне не поверила и так и сказала. Нет, знаешь. Я защищалась и проваливалась всё глубже.
Она такая наблюдательная, что каждый раз, когда я при помощи нежного слова или жеста пытаюсь загладить всё остальное, это остальное вылезает и становится еще хуже.
Тогда я больше не пытаюсь ничего загладить и молчу. Но так тоже только хуже. Всегда только хуже.
Она сидит, или лежит, на ужасном обитом кожзаменителем черном диване и читает, или пытается читать. Не знаю.
Теперь я говорю себе, что диван не так уж плох. Но тогда он казался ужасным.
Она читала или пыталась читать, но мне казалось, что она не столько читала, сколько следила за мной, уж не знаю почему. Или нет, немного знаю. Она была начеку.