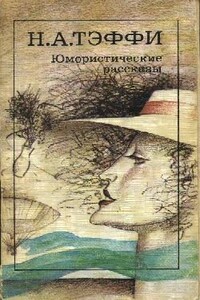— Силь ву плэ! Нэ плер па! Вуаси ле трамвей, ле трамвей!
На ней была котиковая шубка.
Удивительный зверь этот котик. Он мог вынести столько, сколько не всякая лошадь сможет.
Артистка Вера Ильнарская[40] тонула в котиковой шубке во время кораблекрушения у турецких берегов на «Грэгоре». Конечно, весь багаж испортился — кроме котиковой шубки. Меховщик, которому она впоследствии дана была для переделки, решил, что, очевидно, котик, как животное морское, попав в родную стихию, только поправился и окреп.
Милый ласковый зверь, комфорт и защита тяжелых дней, знамя беженского женского пути. О тебе можно написать целую поэму. И я помню тебя и кланяюсь тебе в своей памяти.
Итак, трясемся мы в товарном вагоне. Я завернулась в шубку, слушаю мечты Оленушки и Аверченки.
— Прежде всего, теплую ванну, — говорит Оленушка. — Только очень скоро, и потом сразу жареного гуся.
— Нет, сначала закуску, — возражает Аверченко.
— Закуска — ерунда. И потом, она холодная. Нужно сразу сытное и горячее.
— Холодная? Нет, мы закажем горячую. Ели вы в «Вене» черный хлеб, поджаренный с мозгами? Нет? Вот видите, а беретесь рассуждать. Чудная вещь, и горячая.
— Телячьи мозги? — деловито любопытствует Оленушка.
— Не телячьи, а из костей. Ничего-то вы не понимаете. А вот еще, у Контана на стойке, где закуски, с правой стороны — между грибками и омаром — всегда стоит горячий форшмак — чудесный. А потом у Альберта, с левой стороны, около мортоделлы — итальянский салат… А у Медведя как раз посредине в кастрюлечке такие штучки, вроде ушков с грибами, тоже горячие…
— Хорошо, — торопится Оленушка. — Не будем терять время. Значит, все это из всех ресторанов будет уже на столе, но все-таки одновременно и жареный гусь с капустой… нет, с кашей, с кашей сытнее.
— А не с яблоками?
— Я же говорю, что с кашей сытнее. Беретесь рассуждать, а сами ничего не понимаете. Так мы никогда ни до чего не договоримся.
— А где же все это будет? — спрашиваю я.
— Где? Так, вообще… — рассеянно отвечает Оленушка и снова пускается в деловой разговор. — Еще можно из Кисловодска достать шашлык, из Ореховой Балки.
— Вот это дельно, — соглашается Аверченко. — А в Харькове я ел очень вкусные томаты с чесноком. Можно их подать к этому шашлыку.
— А у нас в имении пекли пироги с налимом. Пусть и этот пирог подадут.
— Отлично, Оленушка.
Зашевелилась в углу темная глыба. Гуськин подал голос.
— Извиняюсь, госпожа Тэффи… — вкрадчиво спросил он. — Я любопытен знать… вы любите клюцки?
— Что? Клецки? Какие клецки?
— Моя мамаша делает клюцки из рыбы. Так она вас угостит, когда вы будете у нас жить.
— Когда же я буду у вас жить? — с тоской ужасных предчувствий спрашиваю я.
— Когда? В Одессе, — спокойно отвечает Гуськин.
— Так ведь я буду в «Лондонской» гостинице!
— Ну конечно. Кто спорит? Никто даже не спорит. Вы себе живете в «Лондонской», но пока что, пока багаж, пока извозчик, пока все эти паскудники разберутся, вы себе спокойно сидите у Гуськина и мамаша угощает вас клюцками.
О-о-о! Мое больное воображение сразу нарисовало мне комнатку, разделенную пополам ситцевой занавеской. Комод. На комоде гуськинские штиблеты и отслуживший воротничок. А за перегородкой — мамаша стряпает «клюцки».
— Тут что-то дело неладно, — шепчет мне Аверченко. — Надо будет вам в Киеве хорошенько разобраться во всех этих комбинациях.
Ободренный моим молчанием, Гуськин развивает планы:
— Мы еще можем в Гомеле устроить вечерок. Ей-Богу, можем по дороге сделать. Гомель, Шавли. Ручаюсь, везде будет валовой сбор.
Ну и Гуськин! Вот это антрепренер! За таким не пропадешь.
— А скажите, Гуськин, — спрашивает Аверченко, — вам, наверное, очень много приходилось возить гастролеров?
— Э, таки порядочно. Хор возил, труппу возил. Вы спросите Гуськина, чего Гуськин не возил.
— Так вы, вероятно, миллионы заработали на этих валовых сборах-то?
— Миллионы? Хе! Дайте мне разницу. Дайте мне разницу от двадцати тысяч, так я уже буду доволен.
— Ничего не понимаю, — шепчу я Аверченке. — Какую ему нужно разницу?
— Это значит, что он так мало заработал, что если вычесть эту сумму из двадцати тысяч, то он с удовольствием возьмет разницу.