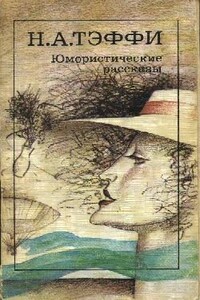У Оленушки дрожат губы — сейчас заревет.
— Вы смеетесь надо мной! Да! Да, я съела десяток яблок, так что же из этого? Это-то меня и у-уби…вает больше всего… что я так погрязла и бе…безвольная…
Тут она всхлипнула и, уже не сдерживаясь, распустила губы и заревела, по-детски выговаривая «бу-у-у!».
Аверченко растерялся.
— Оленушка! Ну что же вы так убиваетесь! — утешал он. — Подождите денек, вот приедем в Киев и посадим яблоню.
— Бу-у-у! — убивалась Оленушка.
— Ей-Богу, посадим. И яблоки живо поспеют — там климат хороший. А если не хватит, то можно немножко прикупать. Изредка, Оленушка, изредка! Ну не будем прикупать, только не плачьте!
«Это все наша старуха наделала, — подумала я. — Оленушке перед этой святой женщиной кажется, что все мы гнусные, черствые и мелочные людишки. Ну что туг поделаешь?»
Легкий скрип двери прервал мои смятенные мысли…
Опять глаз!
Посмотрел, спрятался. Легкая борьба за дверью. Другой глаз, другого сорта. Посмотрел и спрятался. Третий глаз оказался таким смелым, что впустил за собой в щелочку и нос.
Голос за дверью нетерпеливо спросил:
— Ну-у?
— Вже! — ответил он и спрятался.
Что там делается?
Мы стали наблюдать.
Ясно было: на нас смотрят, соблюдая очередь.
— Может быть, это Гуськин нас за деньги показывает? — додумался Аверченко.
Я тихонько подошла к двери и быстро ее распахнула.
Человек пятнадцать, а то и больше, отскочили и, подталкивая друг друга, спрятались за печку. Это все были какие-то посторонние, потому что дочкины дочки и прочие домочадцы занимались своим делом, даже как-то особенно усердно, точно подчеркивая свою непричастность к поведению этих посторонних. А совсем отдельно стоял Гуськин и невинно облупливал ногтем штукатурку со стенки.
— Гуськин! Что это значит?
— Ффа! Любопытники. Я же им говорил — чего смотреть! Хотите непременно куда-нибудь смотреть, так смотрите на меня. Писатели! Что-о? Что у них внутри — все равно не увидите, а снаружи — так совсем такие же, как я. Что-о? Ну конечно, совсем такие же.
Одно интересно — продавал Гуськин на нас билеты или пускал даром? Может быть, и даром, как пианист, который, чтобы не терять doigté[38], упражняется на немых клавишах.
Мы вернулись к себе, заперев дверь поплотнее.
— А собственно говоря, почему мы их лишили удовольствия? — размышляла Оленушка. — Если им так интересно — пусть бы смотрели.
— Верно, Оленушка, — поспешила я согласиться (а то еще опять заревет). — Да, скажу больше: чтобы доставить им удовольствие, мы бы должны были придумать какой-нибудь трюк: поставить Аверченку кверх ногами, взяться за руки и кружиться, а актрису с собачкой посадить на комод и пусть говорит «ку-ку».
Днем после первой яичницы (потом была и вторая — перед отъездом) развлек нас старухин муж. Это был самый мрачный человек из всех встреченных мною на пути земном. Настоящему не доверял, в будущее не верил.
— У вас здесь в К-цах хорошо, спокойно.
Он уныло долбил носом.
— Хорошо-о. А что будет дальше?
— Какие вкусные у вас яблоки!
— Вкусные. А что будет дальше?
— У вас много дочек.
— Мно-го-о. А что будет дальше?
Никто из нас не знал, что будет дальше, и ответить не мог, поэтому разговор с ним всегда состоял из коротких, но глубоких по философской насыщенности вопросов и ответов — вроде диалогов Платона[39].
— У вас очень хорошая жена, — сказала Оленушка. — Вообще, вы все, кажется, очень добрые!
— Добрые. А что бу…
Он вдруг безнадежно махнул рукой, повернулся и вышел.
После второй яичницы сложили вещи; мужья дочкиных дочек поволокли наш багаж на вокзал; мы трогательно попрощались со всеми и вышли на крыльцо, предоставив Гуськину самую деликатную часть прощания — расплату. Внушили ему, чтобы непременно убедил взять деньги, а если не удастся убедить — пусть положит их на стол, а сам скорее бежит прочь. Последнюю штуку мы с Оленушкой придумали вместе. И еще добавили, что если святая старуха кинется за ним, то пусть он бежит не оглядываясь на вокзал, а мы врассыпную за ним — ей не догнать, она все-таки старая.
Ждали и волновались.
Через дверь слышны были их голоса — Гуськина и старухи, то порознь, то оба вместе.