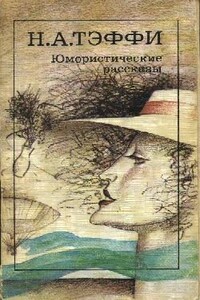Его можно было без стеснения разглядывать, просто как какое-то произведение чьей-то выдумки. Было сознание, что все это для того и сделано, чтобы люди смотрели, любовались и удивлялись. Иначе какой смысл был бы в таком рукоделии?
И представьте себе, что все это вместе взятое было очаровательно.
Конечно, немножко удивляли эти нечеловеческие глаза. Они были особенно некстати, когда он пел свои легкомысленные, легковесные и жеманные стихи-бержеретки[342], слегка шепелявя и заикаясь.
Любовь не знает жалости,
Любовь так зла.
Ах, из-за всякой малости
Пронзает стрела.
Казалось, что этим ассирийским глазам неловко, что при них поют «такое».
Ах, можно ль у Венерина колодца
Стрелой любви, стрелой любви не уколоться.
Маленькие руки перебирают клавиши, манерно изгибается худенькое тело. Глаза целомудренно опущены. Да, конечно, им неловко. Немножко стыдно…
Любовь нам ставит сети
Из тонких шелков.
Любовники, как дети,
Ищут оков.
— Когда же это дети ищут оков? Странно.
Но это никого не удивляет, потому что это прелестно. Это ново. Это необычайно. Разве когда-нибудь где-нибудь было что-нибудь подобное — вот такое сочетание, нелепое, художественно противоречивое и вместе с тем очаровательное.
Если бы создавать это явление (иначе не назовешь) обдуманно и со смыслом, то для такой ассирийской головы нужно было бы слепить сухое, но сильное тело с длинными, под прямым углом остро согнутыми в коленях ногами и у ног этих положить крутогривого оскаленного льва или даже лучше — двух львов, носами друг к другу, завитыми хвостами врозь.
…Если бы я был твоим рабом последним…
[343]Не помню. Что-то про пыль сандалий… Это для ассирийских глаз подходило. Через горечь рабского унижения они могли бы пройти, а вот через бержеретки — только опустив ресницы.
О Кузмине говорили, что он когда-то был «весь в русских настроениях», носил косоворотку и писал патриотически-русские стихи. Но стихов этих в нашем кругу никто не видал. Его салонная карьера началась с Венерина колодца и сразу была принята и прославлена нашими эстетами.
Серьезные музыканты хвалили его музыку. Улыбались, покачивали головами.
— Это, конечно, пустячки, но так очаровательно!
Вы так близки мне, так родны,
Что будто вы и не любимы,
Должно быть, так же холодны
В раю друг к другу серафимы.
А ваша синяя тетрадь
С стихами — было все так ново.
И понял я, что вот — страдать
И значит полюбить другого.
Потом, когда мы ближе познакомились и я уже привыкла к разнобою в его личности, я уже могла просто интересно с ним разговаривать, а вначале я так прилежно его рассматривала, что даже теряла нить разговора.
Иногда он приходил ко мне со своей нотной тетрадью. В ней были записи его музыки. «Хождение по мукам Богородицы». Играл он тоже немного заикаясь, как и читал стихи. И к этому привыкла, и это стало очаровательно.
Как-то он вскользь сказал, что любит мои стихи.
— Некоторые…
Я даже в «некоторые» не поверила. Подумала: «Вот как он сегодня мило любезен».
Но вот раз, сидя у рояля, он начал вполголоса напевать. Слышу как будто что-то знакомое и не знаю что.
— Что это такое?
Он удивленно поднял брови и продолжал напевать-бормотать, аккомпанируя себе одной рукой. Слышу:
И если о любви она поет — взгляните,
Как губы у нee бледнеют и дрожат.
Должно быть, там у них, на островах Таити,
Любовь считается смертельный яд.
«Быть не может! Да ведь это мое! Значит, действительно стихи ему понравились».
Это было коротенькое стихотворение, посвященное Каза-Розе:
Быть может, родина ее на островах Таити,
Быть может, ей всегда всего пятнадцать лет…
Вот почему надет витой из тонкой нити
На смуглой ножке золотой браслет.
Мне было приятно. Я не честолюбива, и я скорее удивлялась, чем чувствовала себя польщенной, но удивление это было приятное.
О Кузмине говорили, что он кривляется, ломается, жеманничает.
В начале салонной его карьеры можно было подумать, что ломается он, вероятно, просто от смущения. Но потом, так как манера его не изменилась, уже стало ясно, что это не смущение, а манера обдуманная, которая так ясно всеми одобряется, что исправлять ее было бы непрактично. Но заикался и шепелявил он уже вполне искренне. Между прочим, тогда многие из наших поэтов были косноязычными. Это очень ярко выяснилось, когда Федор Сологуб пригласил их участвовать в представлении его пьесы. Удивительно, какая оказалась у всех каша во рту. Так, Сергей Городецкий ни за что не мог выговорить слова «волшебный». Он отчетливо говорил «ворфебный».