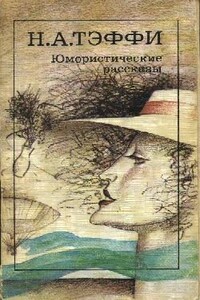— Портфель! Боже мой! Забыл портфель!
И ринулся в подъезд.
На глазах оторопевшего лакея ворвался в кабинет, схватил свой портфель да заодно и лежащую на столе рукопись.
Через час, когда рукопись была спешно просмотрена, он вернулся в дом сановника и сказал лакею:
— Барин велел, чтобы я сам положил эти листы к нему на стол.
На другой день сановник был страшно удивлен, увидя в газете общий план составленного им проекта.
— Я ведь отвечал очень уклончиво на расспросы этого журналиста. Какой у него необычайный нюх!
И вот этого-то Клячко-Львова, короля репортеров, за которым охотились все газеты, Ленин предложил удалить. Заменить Ефимом с плевелами.
— Пожалуй, и весь литературный отдел покажется вам лишним? — спросила я.
— Откровенно говоря, да. Но подождите. Продолжайте работать, а мы все это реорганизуем.
Реорганизация началась сразу же. Началась с помещения. Явились плотники, притащили доски, разделили каждую комнату на несколько частей.
Получилось нечто вроде не то улья, не то зверинца. Всё какие-то темные углы, клети, закуты. Иногда выходило вроде стойла на одну лошадь. Иногда маленькое, вроде клетки на небольшого зверя, скажем, для лисицы. И внутренняя стена так близко, что если поставить перед зрителями решетку, то можно было бы подразнить зверя зонтиком и даже, если не страшно, погладить. В некоторых закутках не было ни стола, ни стула. Висела только лампочка на проводе.
Появились в большом количестве новые люди. Все неведомые и все друг на друга похожие. Выделялись из них Мандельштам, умный и интересный собеседник, А. Богданов, скучноватый, но очень всеми ценимый, Каменев, любящий или, во всяком случае, признающий литературу. Но они почти никогда в редакции не появлялись и были, насколько я понимаю, заняты исключительно партийными делами. Остальные собирались группами по закутам, становились в кружок, головой внутрь, как бараны во время бурана. В центре кружка всегда была в чьей-нибудь руке бумажка, в которую все тыкали пальцем и вполголоса бубнили, не то не разбирая, в чем дело, не то следя друг за другом. Странная была редакция.
Нетронутой оставалась только одна большая комната для редакционных собраний.
Собрания эти велись довольно нелепо. Приходили люди, ничего общего с газетой не имеющие, толклись тут же, у стенки за стульями, пожимали плечами, глубокомысленно-иронически опускали углы рта там, где все было просто и ясно и никакой иронии вызвать не могло. Вроде того, что набирать покойников петитом или общим шрифтом.
Во время одного такого заседания кто-то доложил, что пришел некто Фаресов (кажется, из народников), хочет принять участие в газетной работе.
— Никто не имеет ничего против Фаресова? — спросил Ленин.
Никто.
— Он мне только лично несимпатичен, — пробормотала я. — Но это, конечно, не может иметь значения.
— Ах, так, — сказал Ленин. — Ну, если он почему-нибудь неприятен Надежде Александровне, так Бог с ним совсем. Скажите, что мы сейчас заняты.
Боже мой, какой джентльмен! Кто бы подумал!
А П-в шепнул мне:
— Видите, как он вас ценит.
— А по-моему, это просто предлог, чтобы отделаться от Фаресова, — ответила я.
Ленин (он сидел рядом) покосил на меня узким лукавым взглядом и рассмеялся.
А жизнь в городе текла своим чередом.
Молодые журналисты ухаживали за молодыми революционерками, наехавшими из-за границы.
Была какая-то (кажется, фамилия ее была Градусова — сейчас не помню), которая разносила в муфте гранаты, и провожающие ее сотрудники буржуазной «Биржевки» были в восторге.
— Она очень недурно одевается и ходит к парикмахеру, и вдруг в муфте у нее бомбы. Как хотите — это небанально. И все совершенно спокойно и естественно. Идет, улыбается. Прямо душка!
Собирали деньги на оружие.
Вот такие небанальные душки приходили в редакции газет и журналов, в аристократические театры и очень кокетливо предлагали жертвовать на оружие. Одна богатая актриса отнеслась к вопросу очень деловито. Дала двадцать рублей, но потребовала расписку.
— В случае, если революционеры придут грабить мою квартиру, так чтобы я могла показать, что я жертвовала в их пользу. Тогда они меня не тронут.