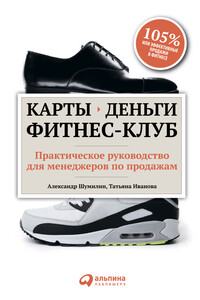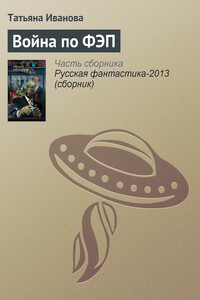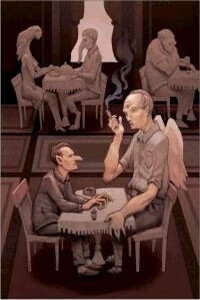Характер эксплоатации в подмосковной Столыпиных был иной, чем в пензенском захолустье. Но от этого рабство не становилось легче. Если в Середникове у Столыпиных не было физических пыток, о которых Лермонтов мог слышать в Тарханах, то здесь было другое: доведенная до предела, продуманная и организованная эксплоатация, а подчас и моральное издевательство.
Воспоминания о суровой крепостной действительности при Столыпиных и о жестокой барыне-помещице дошли до наших дней. «Жестокие были господа, – вспоминают старики-колхозники. – Чтобы матери не отвлекались от работы мыслью об оставленных дома детях, приказано было брать их во всякую погоду, в жару и дождь в поле и оставлять под присмотром старухи. Опоздала девушка на молотьбу. Только взялись за цепы и молотить-то не начали, – все равно опоздала. В наказанье: пой и пляши… И вот идет она впереди, пляшет, поет, пока не кончится длинный барский ряд. А слезы так и катятся градом»[219], – рассказывает колхозница деревни Лигачево, принадлежавшей некогда Столыпиным.
Жестокая эксплоатация крестьян существовала в окрестных деревнях Медведково и Рожково у помещика фон-Дребуша. В Середникове слышал Лермонтов рассказы из прошлого о помещике Нестерове и его управляющем, которые довели крестьян до полной нищеты. Крестьяне должны были работать на помещика всю неделю, им не оставалось времени работать на себя. Вернувшись с барщины поздно вечером, женщины шли по окрестным деревням и, стучась под окнами, просили милостыню, чтобы накормить голодных детей.
В 1814 году Середниково купил у Нестерова граф Григорий Алексеевич Салтыков. Салтыков был гуманный человек, и положение крестьян несколько изменилось. Этот сюжет избавления крестьян от жестокого помещика путем покупки другим, более гуманным, использован Лермонтовым в «Странном человеке».
В драме «Странный человек», законченной в июле 1831 года, Лермонтов остро ставит вопрос о произволе помещиков и бесправии крестьянской массы. Как в «Вадиме», так и в «Странном человеке» мы встречаем образ жестокого приказчика. Этот образ мог быть взят Лермонтовым из прошлого Середникова.
В драме «Странный человек» выведены барыня и управляющий. «У нее управитель, вишь, в милости. Он и творит, что ему любо», – жалуется мужик. Тип управляющего, который делает все, что хочет, в имении, как и образ помещицы-крепостницы, могли быть подсказаны Лермонтову крепостной действительностью, которую он наблюдал в усадьбе Столыпиных. Середниковым же могла быть внушена и тема крестьянского бесправия и произвола помещиков.
Летом 1830 года в Середникове Лермонтов разрабатывает ряд замыслов, темой которых является самоценность человеческой личности, вне зависимости от знатности, чинов и богатства. На страницах его тетради находим планы его первой драмы «Испанцы». Образ юноши, гордого сознанием своего личного достоинства, которое дает ему право на жизнь, право, несправедливо отнимаемое обществом, мы встречаем как в драме «Испанцы», так и в замысле трагедии, сюжет которой Лермонтов, подчеркивая, записывает на одной странице с наброском к «Испанцам»: «(В первом действии моей трагедии молодой Испанец говорит отцу любовницы своей, что благородные для того не сближаются с простым народом, что боятся, дабы не увидали, что они еще хуже его)».
Эта запись отделена чертой, под которой помещен сюжет другой трагедии на ту же тему:
«Сюжет трагедии. Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальниками. (Он был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжировал на казенный счет.), – Он застреливается»[220].
«Пылкий» юноша сбросил театральный костюм испанца и превратился в «молодого человека в России» «не дворянского происхождения», «из поповичей или из мещан».
Для конкретизации темы нужен был жизненный материал. Среди фактов, которые подсказали Лермонтову этот реалистический сюжет, могли быть его наблюдения над кустарями-краснодеревщиками деревни Лигачево. Значение впечатлений Середникова вырастает, если принять во вынимание, что впечатлений от демократической студенческой массы в стенах университета Лермонтов летом 1830 года еще иметь не мог. Он поступил в университет осенью 1830 года, а фактически студентом стал только с января 1831 года, так как первую половину учебного года Московский университет был закрыт из-за холеры.