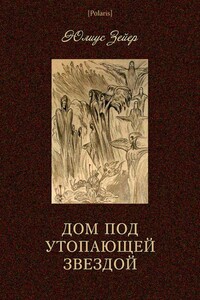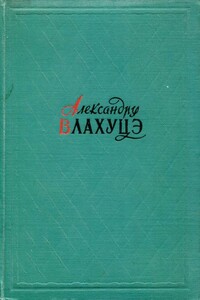Некоторое время спустя я ушел от М. и стал работать редактором в другом месте. Мне приходилось просматривать почти все выходящие журналы; и вот во многих из них, особенно в изданиях М., который тогда необычайно процветал, я все чаще с беспокойством встречал рассказы Л. Они были написаны с подлинным мастерством, говорили о строгом вкусе и зорком глазе, но при этом в них появилось то, чего я опасался с самого начала — признаки явного компромисса. Кто-то привил ему проклятый порок всей американской литературы — неизбежный счастливый конец. К моему искреннему огорчению, Л. начал писать рассказы примерно на такие темы: 1) как молодая женщина, отказавшись от мечты посвятить себя искусству, с успехом занялась рекламным делом; 2) как уже немолодая обольстительница, пустившись во все тяжкие, потерпела полное поражение в чисто американском духе; 3) рождественская картинка, столь сладкая и сияющая, что хуже не найти даже на самых сентиментальных страницах Диккенса; 4) как бродвейский репортер, решив разрекламировать большой отель описанием изощренного разврата, царящего в его стенах, случайно женил добропорядочного молодого человека, каким оказался управляющий отеля, на богатой наследнице. И так далее и так далее, если не до бесконечности, то по крайней мере в течение тех десяти лет, пока Л. жил и работал.
За это время мне приходилось слышать, а порой и наблюдать много такого, что меня в Л. никак не радовало. М., верный своему обещанию, — а я убежден, что он в самом деле привязался к своему юному протеже (насколько он вообще способен был к кому-либо привязаться), — обеспечил молодому человеку приличное жалованье, тысячи три в год; его, юношу двадцати четырех — двадцати пяти лет, М. направил в Стокгольм для встречи с прославленным обманщиком — доктором Куком, утверждавшим, будто он открыл полюс; посылал его в Париж, где он написал ряд интересных статей, в Рим, на Средний и Дальний Запад, давал ему возможность изучать светскую и театральную жизнь Бродвея. Все это, конечно, очень хорошо, только М. неизменно требовал во всем, что писалось для его журнала, заключительного «мазка» — счастливой концовки, или уж хотя бы возвышенной и трогательной. Я же считал, что Л., при его одаренности, должен целиком посвятить себя беллетристике, как искусству, и писать, невзирая на различные теории и типы концовок, — я твердо верил, что в конечном счете из него, бесспорно, получится настоящий мастер. Разумеется, я не возражал бы против того или иного опыта, даже если это на время и уводило его в сторону от реалистической манеры письма — лишь бы он всегда помнил о том идеале, к достижению которого должен был стремиться. Ему следовало писать всегда в том ясном, остром стиле, каким были написаны его ранние рассказы, следовало сохранять тот дух страстного обличения, который был присущ ему на первых порах, когда условности морали нисколько не связывали его и не принимались им в расчет.
Но, встретясь с М., работая на него и, видимо, на какой-то срок подпав под влияние его личности, Л., по-моему, стал постепенно забывать о своем идеале: М., словно паук, ловко опутал его сетями своих заманчивых рассуждений. Я уверен, что М. вредно действовал на юношу. Под его опекой Л. мало-помалу стал, например, завсегдатаем одного широко известного ресторанчика, где собирались люди, считавшие себя богемой. Это заведение, проникнутое духом дурной сентиментальщины и подражания английской старине, должно было представлять собою подобие старинной английской гостиницы, причем владельцам явно хотелось, чтобы посетители принимали копию за подлинник, — внутри все было отделано мореным или черным дубом, стены украшены трубками с длинными чубуками и картинами с изображением сцен английской охоты и веселого кутежа, на темных, грубо сколоченных столах валялись газеты и журналы, посвященные конному спорту и всяким иным развлечениям светских людей на лоне природы. Все это должно было создать в заведении атмосферу близости к большому свету, в который посетители не были вхожи, хотя и жаждали прослыть светскими людьми. Здесь-то и бывал Л. в кругу новоявленных добрых приятелей, так не похожих на его прежних друзей, — тут был самовлюбленный поэт, светский тон и претензии которого далеко превосходили его талант; маклер с Уолл-стрита, корчивший из себя клубмена, остряка и непременного посетителя театральных премьер; несколько молодых и честолюбивых драматургов, мечтающих об успехе на Бродвее, — и в этой компании Л. стал разыгрывать из себя некую достопримечательность города, истинное его дитя, любимца и баловня самых блистательных нью-йоркских кругов — одним словом, вел себя как достойный ученик М. Одевался он теперь — я изредка встречал его — с гораздо большим шиком, но отнюдь не с большей солидностью, чем в те дни, когда я впервые познакомился с ним. Маленькую круглую шляпу или залихватскую кепку, которую он носил, приехав с Запада, он заменил каким-то необыкновенным котелком с четырехугольной тульей; к такому головному убору, мне кажется, питают пристрастие владельцы похоронных бюро, банкиры пуританского склада и некоторые лица духовного звания, только у Л. котелок был светло-коричневый. Он носил красновато-коричневый либо серый в елочку костюм из английской шерсти, модные тупоносые штиблеты с пуговицами. Он ходил с тяжелой тростью, нередко — с портфелем из светлой кожи и, видимо, был поглощен собой, своими делами и своими сочинениями. «Каждый человек, — наткнулся как-то я на одно из его изречений, — должен относиться ко всем удовольствиям и трудам, какие ему выпадают в этом мире, с величайшей серьезностью». Он держался барином, покровительственно разговаривал с метрдотелем и официантами, называл повара приятелем (тот, вероятно, о нем и не слыхал никогда) и передавал ему наставления — как именно надо зажарить отбивную или бифштекс. Ежедневно в пять часов он встречался со своими новыми друзьями или хотя бы с одним из них (поэтом) и священнодействовал за шахматной доской, затем просматривал вечернюю газету и заказывал обед. В традиционных оловянных кружках появлялся добрый эль — отнюдь не пиво — единственный напиток, достойный настоящих литераторов.