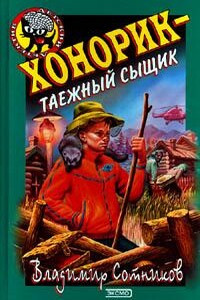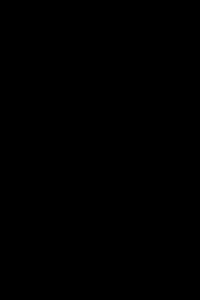Обратиться к нему меня заставила нервная депрессия. На моем физическом состоянии она отразилась мало; я, можно сказать, был болен духовно. Честно говоря, я относился и к Калхейну и к его методам с предубеждением. Я и раньше немало слышал о нем. Начать с того, что он был известным борцом, или, вернее, бывшим борцом, который ушел с ковра в расцвете славы — непобежденным чемпионом мира. Еще мальчиком я знал, что он вместе с Маджеской объехал Америку, играя Чарльза в «Как вам это понравится». До или после этого он тренировал Джона Л. Салливэна — тогдашнего чемпиона мира по боксу, и подготовил его к одному из самых блестящих выступлений, — и это в такое время, когда Салливэн, казалось, не имел никаких шансов на успех. За свою жизнь Калхейн переменил много профессий: работал на отцовской ферме в Ирландии, отрабатывал проезд в Америку камбузным юнгой, был рабочим на фабрике мясных консервов, поваренком, потом официантом в третьеразрядном ресторанчике Нью-Йорка, вышибалой в кабаке, массажистом на состязаниях по боксу, полисменом, рядовым в Гражданскую войну, билетером, ярмарочным борцом, барабанщиком в бродячем цирке, и, наконец, достигнув наивысшей славы как чемпион мира по борьбе и тренер Джона Л. Салливэна, он открыл в одном из отдаленных округов штата Нью-Йорк спортивный санаторий, на смену которому позднее пришел в высшей степени фешенебельный пансион в Уэстчестере, возле Нью-Йорка.
Меня всегда удивляло, что люди такого типа внушают чуть ли не благоговейный трепет именно тем, кто занимается умственным трудом; более понятным казалось мне преклонение перед ними тех, кто превыше всего ценит силу, проворство, так называемую физическую храбрость, даже если этим качествам сопутствует грубость. В низших слоях общества — особенно мужчины и подростки — относятся к таким силачам с почтительным уважением, что, наверное, им очень льстит.
Однако в случае с Калхейном дело обстояло несколько иначе. Каким бы неотесанным он ни был в молодости, жизнь его со временем пообтесала. Он приобрел довольно разносторонние знания, привык к учтивому обращению, пригляделся к нравам и обычаям состоятельных людей и научился если не подражать, то хотя бы приноравливаться в известной мере к их манерам. Ему принадлежали сотни акров превосходной земли в одном из наиболее фешенебельных уголков Восточных штатов. Он уже подарил общине сестер милосердия солидное поместье в северной части штата Нью-Йорк. Его конюшня располагала всеми видами самых модных экипажей и шестьюдесятью лошадьми; лошади были отвратительные, нарочно подобранные для «гостей». Сюда приезжали люди всех профессий, вносили с превеликой радостью вперед шестьсот долларов — плату за шестинедельный курс лечения; слуг и собственные автомобили пристраивали где-нибудь поблизости, так как пользоваться ими не разрешалось. Меня рекомендовал, или, скорее, навязал Калхейну, мой заботливый брат, который был его другом, — я сказал бы, закадычным другом, если бы таковой вообще мог появиться у Калхейна.
Меня привезли в весьма подавленном и мрачном настроении и оставили одного: Калхейн редко встречал своих гостей лично, а если и встречал, то всегда заставлял ждать. По дороге в санаторий брат счел нужным предупредить меня относительно своеобразных методов и приемов лечения, которые, по слухам, оказывали благотворное воздействие на большинство пациентов. Методы эти были чрезвычайно свирепы, нарочито свирепы.
По приезде, еще до встречи с хозяином, я поразился благородной простоте здания, в котором помещалась гостиница, или санаторий, или «ремонтная мастерская» (как я узнал позднее, он именно так называл свое заведение); дом стоял на холме, и с крыльца открывался поистине чудесный вид. День выдался ясный и по-весеннему теплый. Живая изгородь из высокого, ровно подстриженного кустарника окружала широкую лужайку, радовавшую глаз ярко-зеленой травой. Дом был серый, большой, вытянутый в длину, со строгими окнами, доходившими до самого пола, и просторными балконами, опоясывавшими весь второй этаж; на балконах стояли кресла-качалки, защищенные от солнца навесом. Возвышенность, на которой находился санаторий, полого спускалась к морю; до побережья было несколько миль. Какое очарование придавали пейзажу шпили деревенских церквей, островерхие крыши и множество парусников, казавшихся отсюда игрушечными! К западу на многие мили вздымались и опадали, как волны, зеленые холмы, а в ясную погоду среди деревьев виднелись шпили и крыши ближайших деревень. На юге слабо поблескивала водная гладь и смутно вырисовывались прихотливые очертания, казавшиеся днем всего-навсего неясным контуром отдаленного пейзажа. Но зато ночью мягкое сияние, излучаемое мириадами огней, указывало местонахождение огромного города — нарядного и разгульного Нью-Йорка. На севере поросшие травой холмы тянулись бесконечной чередой, пока не исчезали в зеленовато-голубой дымке.