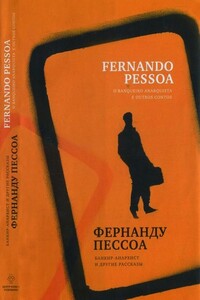Робидэ не мог оказать мне лучшей услуги, чем каждый раз заново называя по именам жителей коммуны. Ему известен был недостаток, который в течение всей моей жизни разыгрывал со мной самые нелепые шутки и наводил на самые досадные ошибки: я не запоминал людских лиц. Отсюда — неуверенность в обращении, которую часто принимали за высокомерие, презрительность, равнодушие: тот, кого не узнали, с трудом верит, даже после предупреждения, что его действительно не узнали. Жителей коммуны, слава богу, было немного. Словно испытывая мои силы, Франция приберегла для самого юного из мэров одну из самых крошечных коммун. И без того малое число жителей все уменьшалось и уменьшалось: ежегодно смертность превышала рождаемость. Сейчас я живу в одной из самых плодовитых областей Франции, и выбор семьи — кандидатки на коньяковскую премию,[1] не представил бы никаких затруднений; в Ляроке большинство семей были бездетны. Не представляйте себе деревни, даже кучки домов вокруг церкви. Одни лишь разбросанные по полям фермы, подчас больше, чем за километр одна от другой. Но ни одна не стояла так на отлете, как ферма Пьера Б., самого молодого из моих фермеров, сына покойного мэра, место которого мне досталось. Пьер Б. незадолго до этого женился на одной из самых милых девушек округи. С молодыми жила на ферме прислуга лет четырнадцати-пятнадцати, сестра жены, по редкой случайности забеременевшей; потому-то я и заинтересовался особенно этой четой.
Г-жа Б. была на последнем месяце, когда, как на грех, музу пришлось уехать на дальний рынок — покупать скот. Всего два дня отлучки. Дела прежде всего.
Не успел Пьер Б. уехать, как у жены начались схватки.
— Сдается мне, что роды будут трудные, — сказала молодая женщина своей сестре-служанке. — Боли сильные, но словно не такие, как нужно. Ну, не глупо ли, что Пьер уехал!
Потом, попозже:
— Хорошо бы тебе сходить за доктором в Лизье. Пьер ничего не скажет. Не бойся оставить меня одну. Время еще терпит…
Лизье в двенадцати километрах. Девочка бежит туда. Врач, неопытный новичок-стажер, приезжает с ней в одноколке (тогда еще не было автомобилей). Ничего не разузнав у простоватой девочки, он не берет с собой ни одного из инструментов, требующихся на случай тяжелых родов. К тому же он не хирург. Он торопился, правда, и девочка почти всю дорогу бежала, но с того момента, как она покинула сестру, прошло три часа. Когда врач наконец приезжает, — уже ночь.
Когда на следующее утро Пьер Б. возвратился с рынка, он увидел с крыльца — дверь в комнату была распахнута настежь — ужасное зрелище. На смятой постели, вся в крови, бездыханная — его молодая жена с распоротым животом. У нее в ногах кусок кровавого мяса: все, что осталось от ребенка. В комнате — невероятный беспорядок; на полу, на столе — окровавленные инструменты: нож, косарь, шпиговальная игла. Акушерских щипцов оказалось недостаточно; кухонный инвентарь, пущенный в ход, говорил об отчаянии слишком юного врача, который один в полутемной комнате, потеряв голову, хватался за все, что попадется под руку. Перепуганная служанка сбежала, как только началась операция.
Возмущению моему не было границ. Я решил отправиться на розыски доктора, возбудить против него судебное дело. Я поехал в Лизье, но остановил коляску, не доезжая до его дверей. Как сейчас вижу, где я слез. Я вижу, улицу, дом, вижу, как я хожу взад и вперед, готовя обвинительную речь и стараясь вообразить, какое смущенное существо передо мной предстанет; юный врач, карьеру которого я собирался погубить, был, конечно, не орлом, а неопытным мальчишкой, не старше меня самого, и ответил бы мне, что в таком ужасном стечении обстоятельств весь опыт мира не помог бы при полном отсутствии вспомогательных средств. Расхаживая взад и вперед, я представлял себе его волнение, беспомощные движения в полутьме, его растерянность, отчаяние, и настолько пережил сам этот кошмар, что в конце концов вернулся в коляску, чувствуя, что у меня не хватит духа еще удручать беднягу.
Больше настойчивости я проявил в деле Мюло. Все сказанное выше я написал лишь ради того, чтобы перейти наконец к Мюло. О, его я узнал бы изо всех! Из-за него одного стоило полюбить родные места. Я привязываюсь по-настоящему не к местности, — к людям. Я сталкивался в моей коммуне лишь с мелочными интересами, стяжательством, скрытностью, со всеми элементарными формами эгоизма, лишь с угрюмыми и хмурыми лицами, лишь с корявыми либо уродливыми фигурами. Мюло не был местным уроженцем. Даром что нормандец, он ни на кого не походил, и по изысканности его манер легко бы представить себе, что он побочный сын какого-нибудь аристократа. А иногда мне хотелось вообразить его русским по крови, чтобы объяснить мягкую ласковость его мужицкого взгляда. Он носил бакенбарды, как все кальвадосцы. Он был некрасив, правда, но в чертах его лица не было ничего вульгарного или тупого, ничего низкого. А главное, говорил он гораздо правильнее, чем любой из обитателей коммуны. Когда, став мэром, я начал его примечать, ему было около сорока лет. Вскоре я очень привязался к нему. При встрече я всегда разговаривал с ним и часто сворачивал с дороги посмотреть, как он работает. Его, простого землекопа, «поденщика», Робидэ употреблял на самую черную работу.