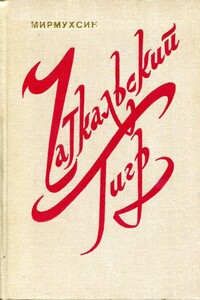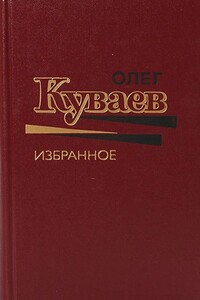На город уже опустилась вечерняя мгла. На западе, над высоким тополем, отвесно стоял ржавый месяц.
А толпа все росла. Она до краев заполнила улицу, ведущую к воротам. Перед ней выросли конные сарбазы — толпа оттеснила их и в темноте, в безмолвии полилась дальше. Слышался лишь быстрый шорох шагов, да лаяли собаки из подворотен.
Миновали кладбище. За низкой каменной оградой смутно виднелись надмогильные купола, каменные надгробья… Казалось, кто-то накинул на кладбище темное прозрачное покрывало.
Темнота… Безмолвие…
Мирхайдару подумалось, что такого леденящего безмолвия не было даже в зиндане. Вспомнив о зиндане, он вспомнил и о томившемся там Абдувахабе Шаши. И прибавил шагу — скорее, скорее к воротам! Пусть войдут русские — они освободят поэта!
Неожиданно ударил громовой раскат. Впереди, в небе словно блеснула и погасла зарница.
У Мирхайдара трепетно дрогнуло сердце. Молнии — молнии в ночи!
Он поднял голову: небо усыпано алмазными звездами. Ни тучки…
Но вот опять небо осветилось быстрой, широкой вспышкой. Новый удар грома сотряс все вокруг. Содрогнулись стены домов, с крыш посыпалась глина. Тряское эхо, словно спотыкаясь, покатилось вдаль…
Мирхайдар вспомнил, как он слушал грозу в подземелье зиндана. Тогда тоже была ночь, и в ночи сверкали молнии, шумел ливень, раскатисто гремел гром, а старый шорник радовался грозе, и душа Мирхайдара полнилась восторгом и надеждой… Проливной дождь досыта напоил поля. В ту осень хорошо уродились и ячмень, и пшеница…
И сейчас Мирхайдар с восторгом и надеждой смотрел в небо, озаряемое отблесками орудийных залпов. И как тогда, в зиндане, шептал одними губами: «Ярче сверкайте, молнии, громче греми гром!..»
Эта сокрушительная гроза сулила в будущем свежее, чистое небо над головой.
Толпа уже приближалась к воротам Камалон. Навстречу ей от ворот скакали сарбазы. Толпа, открывая им путь, отжалась двумя потоками к стенам домов. Снова прогремели залпы, затрещали выстрелы. Из-за угла выскочил еще отряд сарбазов, растаял в сумраке, окутавшем город…
И люди, которых привел сюда Мирхайдар, увидели перед собой разбитые ворота, зияющие бреши в крепостной стене…
Месяц поднялся уже высоко — он не плыл, как лодка, по небесной глади, а висел торчком, — это считалось в народе хорошей приметой: непокойный месяц в небе — покой на земле.
Но горожанам, напуганным грозными событиями последних дней, трудно было оставаться спокойными…
В эту ночь они не могли уснуть, их била дрожь, как после землетрясения. Старики сидели в комнатах, молча, с тоской глядя друг на друга. В городе продолжалась перестрелка, грохотали пушки.
В предрассветной мгле группа конных сарбазов во главе с Насриддинбеком вырвалась из города через ворота Бешагач и Коймас и устремилась в направлении Коканда. Ветер поражения гнал их прочь от Ташкента.
Среди молодых сарбазов находился и Миръякуб, печальный, подавленный… До сих пор, подчиняясь воле беков, он покорно плыл по течению — и вот оно вынесло его из родного города в неизвестность.
Насриддинбека трудно было узнать: он обрюзг, опустился, скакал, затравленно озираясь, исподлобья бросая острые, подозрительные взгляды на своих спутников, бессмысленно бормоча про себя: «Все в воле божьей, все в воле божьей!..»
К восходу солнца они достигли кишлака Зангиата. Бек что-то приказал выехавшему им навстречу юзбаши, и продолжал позорный путь.
Когда они перебирались через высокий холм, Лочин, попав копытом в рытвину, оступился и упал на землю. Бек успел вовремя соскочить с него, нервно рассмеялся:
— Ну, и конь!.. Из скольких схваток вышел целым и невредимым, и на тебе — споткнулся на ровном месте!.. — он обернулся к сарбазам, сошедшим со своих коней. — Это мне напоминает человека, которого ни одна хворь не брала, а пролился ему на руки горячий халвайтар,[25] и он отдал богу душу! — Сарбазы не знали, смеяться им или нет, лишь немногие подхихикнули беку. Тот взмахнул плетью. — Ничего, сейчас этот осел снова станет Лочином!
Он изо всей силы хлестнул Лочина — конь с трудом поднялся, запрыгал, прихрамывая… Бек критически оглядел его, ищуще зашарил глазами вокруг — джигиты молча отворачивались, никому не хотелось уступать беку своего коня. А Насриддинбека подгонял страх. Взгляд его задержался на гнедом иноходце, которого держал под уздцы Миръякуб. Бек пальцем поманил юношу: