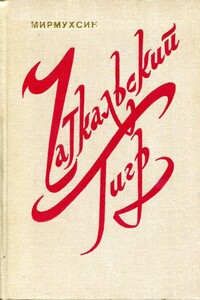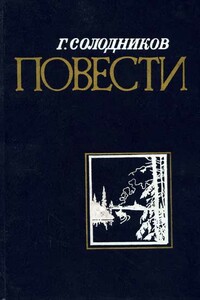Лишь Миръякуб и ведать не ведал, что отец уже не в зиндане, а дома.
Среду, четверг и пятницу он провел с матерью и братом, а субботним утром, в день, когда освободили гончара, отправился в Урду. Из дому он прихватил самсу для Авлиякула-амаки. У старого конюха при виде самсы загорелись глаза, он тут же отправил одну в рот, прожевывая ее, справился о здоровье домашних, спросил и про отца… Миръякуб заварил чай. Старик принялся за чаепитие, а парень пошел побродить. Вокруг стояла мертвая тишина, словно Урду затопило водой. У ворот дремал стражник. Очнувшись, он обвел Миръякуба мутным, ленивым взглядом и снова уронил голову на грудь. Миръякуб потоптался возле бекского айвана — и тут ни души. Он вернулся в конюшню, зашел в каморку Авлиякула-амаки — тот все еще уплетал самсу, запивая ее чаем.
Миръякуб, поджав ноги, уселся на супу, застеленную старым одеялом, задумчиво проговорил:
— Где-то сейчас Карчигай?.. Ох, и конь! Стоит только беку обнажить саблю — летит вперед, как стрела! — Старик согласно кивнул, а юноша, как бы про себя, продолжал. — На дворе — будто в пустыне. Не видно ни Султанмухаммада, ни других сарбазов.
Авлиякул, с набитым ртом, сказал:
— Все на военных учениях. Сдается мне, неладно под Чимкентом — туда отправился Асадуллахан с сотней навкаров. В Урде один лишь светлейший Насриддинбек — только что приехал, я сам принял у него коня.
— Мне бы надо поговорить с ним.
— Ему не до разговоров, и без тебя хватает забот.
— А я зайду к нему с чилимом.
— Ладно уж, иди, коль приспичило.
Миръякуб выскочил во двор. В помещении, где обычно находились мирзы, разыскал чилим, набил его свежим табаком и, захватив спички, прошел через айван в комнату Алимкулибека. Там, в одиночестве, лежал на богатых шелковых курпачах, навалившись грудью на подушки, Насриддинбек. Увидев Миръякуба, он повернулся на бок, равнодушно процедил:
— А, конюх… Что тебе нужно?
Миръякуб снял у дверей кавуши, поклонившись мирзе, опустился возле него на колени, запалил чилим; сначала, по примеру здешних слуг, он затянулся сам, потом, обтерев платком, перекинутым через плечо, камышовый мундштук, передал чилим Насриддинбеку. Тот подождал, пока в чилиме как следует проклокочет вода, сделал несколько глубоких затяжек. Некоторое время, окутанный клубами дыма, он лежал неподвижно, лицо его налилось синевой… Он тихо пробормотал:
— Одурманило…
Миръякуб кинулся к нише, взял веер из павлиньих перьев, принялся размахивать им над мирзой. Немного погодя Насриддинбек блаженно вздохнул:
— Прошло…
Он завалился на спину, положив руки под голову, сказал, глядя в потолок:
— Давно я к тебе приглядываюсь — парень, вроде, толковый. Это ты ухаживаешь за Карчигаем?
— Так точно, светлейший.
— Да-а… И бек тебя хвалит, — он помолчал. — Твой Карчигай сейчас на поле брани. Аллах велик — он дарует нам победу! И все наши печали отлетят от нас, как дым из этого чилима…
Во время этого разговора Миръякуб все тискал в кармане золотые браслеты. Но только собрался извлечь их, как в комнату ввалились Султанмухаммад и с ним еще несколько сарбазов. Пришлось пока уйти ни с чем…
Ночевал Миръякуб в Урде. И на следующее утро снова понес чилим Насриддинбеку. Мирза смекнул, что парень хочет о чем-то поговорить с ним. Может, ему известно что-нибудь о происках Асадуллахана? Он усадил конюха на курпачу напротив себя, испытующе глядя на него, сказал:
— Сдается мне, неспроста ты сюда повадился. Есть ко мне разговор?
— Да, светлейший.
— Говори. Слушаю.
Миръякуб, побледнев, дрожащим голосом произнес:
— Светлейший! Простите моего отца!.. Он… Он в зиндане. Выпустите его оттуда!