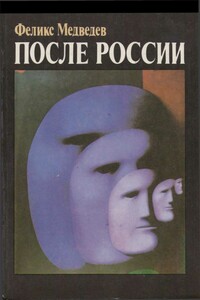– Известно, что вы пишете в кафе, а не дома. Правда ли это?
– Да, по утрам хожу в кафе, где сижу и думаю, вожу пером по бумаге.
– И это давняя привычка?
– Это вошло в моду после войны. В кафе тепло, а в квартире холодно. И я стала ходить работать в кафе. Многие годы так работали писатели, художники…
– Как же можно в кафе писать? Мешает шум, голоса…
– Мне ничего не мешает, абсолютно. Я никого не слышу.
– Надо отключаться!
– В кафе отключаться легче, чем дома. Потому что все, что там происходит, меня не касается. А дома звонит телефон, беспокоит консьержка, приходят родные – и это все касается меня, все отвлекает.
– Вы одна из самых известных писательниц Франции. Как вы к этому относитесь?
– Это меня мало волнует. Я живу довольно однообразной жизнью, вижу не очень многих людей. Не хожу на коктейли, обеды, званые вечера. Паблисити не для меня.
– А для кого?
– Не знаю, для английской королевы…
– Что такое литературная критика по отношению к вам?
– Она меня раздражает. Впечатление такое, что тот, кто пишет обо мне, пишет как бы о другом, даже не открыв моих книг.
– Это касается только французской критики?
– Нет, критики вообще. Со мной всегда так было. Мои книги трудные, если их быстро перелистать, ничего не поймешь. Но бывают и хорошие статьи, приятно, когда чувствуешь, что тебя поняли.
– А можете ли вы назвать имя критика, который, как вам кажется, вас понял бы до конца? Может быть, даже из прошлого века, Сент-Бев, например?
– Об этом я никогда не думала. На досуге поразмышляю.
– Когда в 1968 году в «Новом мире» был напечатан ваш роман «Золотые плоды», я помню, все говорили: «Это новый роман, новая литература». Скажите, кто придумал этот термин – «новый роман»?
– Один французский критик. Он поначалу был с нами не согласен, но когда вышла моя первая книга «Тропизмы» и книга Роб-Грийе «Ревность», он назвал эти книги «новыми романами». И так пошло.
– А вы с этим согласны?
– Да. Потому что еще раньше я написала статьи о том, что литература, как всякое искусство, должна менять формы, находить новые сущности. Ведь каждый из нас писал совершенно разные вещи. Мы никогда не встречались и не говорили об этом. Но у нас было одинаковое мнение о том, что литература это тоже искусство, как поэзия, как всякий другой жанр.
– Простите, мне сейчас пришло в голову: не предлагали вы в свое время этим термином перестройку в литературе?
– Это трудно назвать перестройкой, потому что каждый из нас был одинок, у меня, например, нет прямых наследников, да нет и школы. Люди продолжают писать, как хотят, как умеют.
– Значит, вы стоите в литературе почти особняком?
– Да, я как-то замкнута в своем мире.
– А каковы ваши отношения с нынешними французскими писателями, с кем-то общаетесь?
– Очень мало.
– И всегда так было? По-видимому, вы по натуре малообщительный человек?
– Да, по натуре я довольно одинока, и меня, я уже сказала, не трогают всякие официальные приемы, встречи. Я на них не хожу.
– Но кто же вам близок в жизни?
– С моим мужем мы прожили шестьдесят лет. Он принимал, как это у вас говорят, активное участие в том, что я пишу. Он был адвокатом, но очень интересовался искусством, литературой и делал многое, чтобы поддержать меня. Он был моим первым читателем, его мнение играло большую роль для меня. Он умер в марте 1985 года.
– Что вас сейчас, помимо работы, привязывает к этому миру, к этой земле?
– Мне кажется, мой маленький домик в деревне, который я очень люблю. Местечко называется Шеронс.
– Перед вами, Наталья Ильинична, прошел почти весь двадцатый век. Что вы думаете о нем?
– По-моему, мы пережили ужасный период истории. Расизм. Гитлер – уникум в истории человечества. Ужасное время было, конечно, и при Сталине: насилие, убийство невинных. Пережито две войны, ужасной была и первая война, мне было четырнадцать лет, я многое помню, видела, что делалось вокруг… Что и говорить, невеселый был век.
– Каким вам видится будущее человечества?
– Сказать трудно. Кто бы мог подумать, что будут происходить такие события, как, например, ваша перестройка. Никогда бы не подумала, что это я еще увижу, это невероятно, – поэтому как можно предвидеть, что будет?