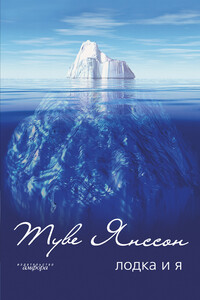Раньше Папа звал меня Илюхой, как своего друга.
Папа уходит на охоту. Я хорошо знаю, как укладывать рюкзак, что с собой брать. Меня не берут. Большая Охота мне обещана в десять лет.
Мечтой своей следую за ним:
между деревьев в высокой траве его размашистый, крупно-медленный шаг,
спина его, любимая до счастливой боли, уходящая,
качающаяся в ритм встающих за ней тонких молодых сосенок, как бы слегка растворяющийся в буроватой зелени силуэт,
и высокая голова - голова Серебряного Оленя - сторожкая, легкая к звуку, как в ауре
в пении птиц, оглянется ко мне!
с лица смеющийся голубой свет глаз.
Воскресенье, вечер праздничен возвращением с охоты. В кухне разложены куропатки, зайцы. Завтра их разнесут знакомым. "Подготавливает" зайцев Папа сам. Это целый обряд. В дверях ставится таз на табуретку, над ним привешивается за заднюю ногу заяц, дальше мне смотреть не позволяется (потом разделывать дичь я научусь сама, не люблю, когда смотрят, это таинство совершает охотник, - животное убито, но публичному обнажению не подлежит, остальные получают только мясо),
мне дарится хвостик.
Папа сидит в углу дивана, всегда в одном углу, с книжкой, и на валике перед ним всегда стакан с крепким чаем. Усталый. Глаза у него синие. Сердитые Папины глаза - металлические.
Мы украшаемся с Валькой и Женькой перьями, делаем себе луки, и в утро уходим в Поход - в дальний конец двора, где лопухи и бурьян - наш лес, наши джунгли. Там мы делим куски хлеба и сахара, оставшиеся от Папиной охоты.
* * *
Я просыпаюсь ночью и бегу к Маме в кровать.
- Испугалась чего-то, дурашка?
Нет, не испугалась, но так - лучше.
Мама целует меня и засыпает.
А я еще чуть чувствую, как холодно прилипал пол к босым ногам, как уходит это "какое-то пространство", что стояло за границами моего одеялка, и тесно прижимаюсь к Маме.
или
На полу оконные лучи, шлепаю босиком по теплым полоскам, пересекаю комнату, сама - солнечная невесомая светлотень, ныряю к Маме под одеяло.
или
По песку, по траве, по Земле
навсегда в ступнях моих - голых ладошках ног
ощущение следов кратчайшего пути, по которому
сокращаю пространство
бегу к Маме.
Самое жданное: ожидание, безначальное (потому что жду
всегда), и конец обрублен почти безнадежностью, ожидание прихода Мамы из театра, с собрания ли, от портнихи, - увидеть ее лицо, потрогать...
* * *
Мы идем с бабушкой гулять. Это чаще зима. По нашей улице еще ездят на лошади, - и мое самое любимое зимнее слово - полозья. От полозьев след летящий снег, узор летящий, примят, уложен, уположен, как бы в руках у меня нити - линии - возможность рисунка.
Или это бабушка рассказывает про Снежную королеву?
Мама дарит мне тетрадку, сшитую из оберточной бумаги, и фиолетовый карандаш для стекла. Ни на одну бумагу потом карандаш не ложился так отчетливо, безотказно.
Я рисую ледяную гору, на ней сидит Снежная Королева. Рисовать легко, - большой во весь лист треугольник - гора, на нем - поменьше, в роскошных звездах, на треугольнике кружок и над ним трехзубая корона, сразу понятно, Снежная Королева. А к горе со всех сторон, со всего мира катят на санках ребята. Мама удивляется, - зачем же они к ней едут, она же злая. У меня даже дух перехватывало, так я понимала, зачем они едут,
у ней же Тайна!
Еще рисую домики. Тоже легко: квадратик, сверху две
палочки, под углом, окошко и дверь.
Внутри, я знаю, у окна стоит столик с самоваром и чашками, пышная кровать, в подушках, стульчики-табуре-точки, конечно, печка расписная, и еще много всего. Там живет какая-нибудь старушка необычайной загадочности и доброты;
новый лист, - еще домик, в нем, может быть, живу я, выхожу гулять в палисадник с ситцевыми цветами;
еще домик;
на каждом листе, каждый день, в день много раз:
- Мама, смотри, как я нарисовала!
- Очень хорошо.
Я обвожу прямоугольник дома жирным карандашом, по линейке, вывожу острые углы крыши, жирно, раз навсегда, изо всех сил, если помарка, меняю лист.
В этих домах уже никто не живет, они не для этого, - они
врублены в лист, как знак моего умения рисовать, знак моего жесткого стояния на земле.