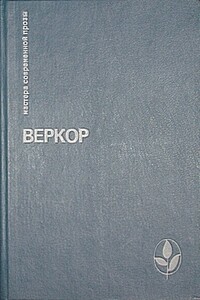Но тут и впрямь со двора послышался лай, и она вышла на порог и закричала — если он не придет сейчас же завтракать, пускай подбирает свой завтрак в саду, потому как она все вышвырнет вон. Хозяин не ответил, но почти тотчас вошел, шляпу он снял, но все равно в дверях пригнулся, чтоб не удариться о притолоку. Не обращая внимания на женино брюзжанье, поздоровался с Дэйвом, развязал и скинул с плеч одеяло и садится к столу, пропахший овцами и потом и одеждой, что развешана по всей уэйре и пропиталась дымом очага. Он все улыбается Дэйву, в курчавой бороде и усах просвечивают желтые зубы, руку он запустил под фланелевую рубашку и с наждачным скрипом почесывает ногтями волосатую грудь. Нравится ли Дэйву жить на ферме, спрашивает он, и хороший ли завтрак состряпала Дэйву хозяйка, и хорошо ли он спал? Но где там расслышать, что отвечает Дэйв, и хозяин говорит — ну-ну, Фэнни, потише, не шуми, Фэн!
Ах, негодяй! Еще хочет, чтоб она не шумела! Нужна ему лошадь или не нужна, сколько раз спрашивать?
Да, лошадь ему нужна. Если Джонни уже позавтракал, пускай пойдет запряжет, надо подвезти столбы к тому месту, где последний оползень подмял ограду.
Ну вот! Видали такого старого дурака! У него недели, да что недели — месяцы были на то, чтоб починить ограду, а он пальцем не шевельнул. Дождался, когда уж стрижка на носу. Ладно, хочет чинить сейчас — пускай чинит один. Потому как хочет взять лошадь — пускай берет, а вот Джонни ей самой нужен.
И хозяин говорит — пускай она даст ему поесть и прикусит язык.
И она замолчала, держит на весу тарелку яичницы с салом, хотя по лицу ясно — не то чтобы не хватает охоты высказаться, просто дыхание перехватило. И тарелка в руке ходит вправо-влево, будто хозяйка никак не решит, швырнуть ли ее супругу в лицо или выкинуть во двор; а муж молча смотрел на нее, потом поднялся и вытащил нож из ножен, но спокойно, не торопясь. Взял точило и, все глядя на жену, принялся медленно точить нож… а тарелка все ходила ходуном и наконец с маху с грохотом опустилась на стол.
И тут она как заорет!
И Дэйв, оцепенело наблюдавший все это (ничего подобного прежде не бывало), почувствовал — Джонни стиснул его руку выше локтя, и не успел он сообразить, что к чему, а оба они уже за дверью; Джонни подхватил со скамьи у стены уэйры переметную суму, и, не обменявшись ни словом, они шагают к калитке и дальше к дороге.
Пока не отшагаешь изрядно по дороге, если оглянуться, еще видна уэйра в четырехугольнике сада, отделенного оградой от загона; и Дэйв опять и опять оборачивается, несколько раз даже останавливается, а потом бегом догоняет Джонни. Такие потрясающие страсти пылают там, в деревянном домишке, а ведь кажется он просто ничтожным — приземистый, прилепившийся на косогоре, на выровненной и расчищенной площадке в несколько жалких квадратных ярдов. Выше лачуги, где ночуют Дэйв и Джонни, склон становится круче, и чем дальше, тем круче, до самого верха, где он упирается в небо. (А лошадь, все же заметил Дэйв, несмотря на охватившее его смятение, пасется на макушке отрога, выступающего чуть сбоку длинного крутого склона,— пожалуй, хозяйка и вправду могла увидеть ее в трубу дымохода, только пересеченную железной перекладиной над очагом.) Одному богу известно, что может случиться, думает Дэйв. А Джонни попросту ушел и оставил их на произвол судьбы; а он, Дэйв? Быть может, раз в жизни надо было предотвратить убийство, а он покорно позволил себя увести. И, в очередной раз догнав Джонни, он готов что-то сказать, но Джонни, шагая враскачку на удивление скорым шагом, поднял голову от списка и спрашивает:
— А рис тебе по вкусу?
Да, что ж, Дэйв не против риса, смотря как его стряпают.
Мать готовила замечательный рисовый пудинг с финиками, а вот вареный рис в дни стирки ему совсем не нравился — тогда у матери и без стряпни хлопот по горло. Она варила обыкновенную рисовую кашу, хотя и это не так плохо, если налить побольше светлой патоки.
А вот Джонни терпеть не может рис, ему рисовая каша осточертела. На военных кораблях ее называют «китайский свадебный пирог».
Нет, говорит он, он никогда не служил в военном флоте. Только на грузовых судах.