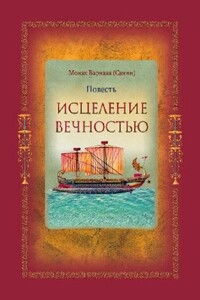На экране мелькнули крупные пальцы комментатора и профиль белого коня.
– Белопольный слон чёрных вынужден уйти…
Опять застучали фигуры.
– …А положение чернопольного становится практически безнадёжным.
Комментатор потыкал сначала в белые, потом в чёрные фигурки на доске, покрутил рукой в воздухе и печально улыбнулся.
– О том, чем закончилась партия, станет известно, как я надеюсь, к вечернему выпуску «Новостей».
На экране возникло заснеженное поле, кончающееся лесом и стиснутое с двух сторон длинными заборами. Внизу кадра была видна кромка шоссе, и по ней неторопливо потянулись белые метеорологические цифры, большая часть которых начиналась с похожего на силикатный кирпич минуса.
«Взять бы такой кирпич, – думала Люся, – и этому Валере по лысине…»
– Знаешь, что это за музыка? – спросила Нелли, подвигаясь к Люсе.
– Нет, – ответила Люся, чуть отстраняясь и чувствуя, как у неё снова начинает ныть грудь. – Раньше она всегда после «Времени» была. А сейчас только иногда заводят.
– Это французская песня. Называется «Манчестер – Ливерпуль».
– Но города-то английские, – сказала Люся.
– Ну и что. А песня французская. Знаешь, сколько я себя помню, всё мы едем, едем в этом поезде… Манчестера я не запомнила, а в Ливерпуль, наверно, так и не попаду.
Люся почувствовала, как Нелли опять придвигается к ней ближе, так что стало ощутимо тепло её тела под тонкой зелёной шерстью. Потом Нелли положила ей руку на плечо – ещё неопределённым движением, которое можно было истолковать и как простое выражение приязни, – но Люся уже поняла, что сейчас произойдёт.
– Нелли, что ты…
– Ах, Франция, – чуть слышно выдохнула Нелли. Она придвинулась ещё теснее, и её рука соскользнула с люсиного плеча на талию.
«Время» кончилось, но вместо вечности на экране возник сначала диктор, а потом какой-то ободранный цех, в центре которого толпились угрюмые рабочие в кепках. Мелькнул корреспондент с микрофоном в руке, и появился стол, за которым сидели дородные мужчины в пиджаках; один из них взглянул Люсе в глаза, спрятал под стол непристойно волосатые ладони и заговорил.
– Париж… – шептала Нелли в самое люсино ухо.
– Не надо этого, – шептала Люся, автоматически повторяя слова экранной хари, – рабочие этого не одобрят и не поймут…
– А мы им не скажем, – безумно бормотала Нелли в ответ, и её движения становились всё бесстыдней; пахло от неё завораживающим зноем «Анаис Анаис», и была ещё, кажется, горьковатая нотка «Фиджи».
«Ну что же, – с неожиданным облегчением подумала Люся, роняя ладонь на бедро Нелли, – пусть это станет моим последним экзаменом…»
Люся лежала на спине и глядела в потолок. Нелли задумчиво рассматривала её покрытый нежным пушком пудры профиль.
– Ты знаешь, – нарушила она наконец долгую тишину, – а ведь ты у меня первая.
– Ты у меня тоже, – ответила Люся.
– Правда?
– Да.
– Тебе хорошо со мной?
Люся закрыла глаза и чуть заметно кивнула.
– Послушай, – зашептала Нелли, – обещай мне одну вещь.
– Обещаю, – прошептала Люся в ответ.
– Обещай мне, что ты не встанешь и не уйдёшь, что бы я тебе ни сказала. Обещай.
– Конечно обещаю. Что ты.
– Ты во мне ничего необычного не заметила?
– Да нет. Милицейских слов только много говоришь. Знаешь, если ты на них и работаешь – какое мне дело?
– А кроме этого? Ничего?
– Да нет же.
– Ну ладно… Нет, я не могу. Поцелуй меня… Вот так. Ты знаешь, кем я раньше была?
– Господи, да какая разница?
– Нет, я не в том смысле. Ты когда-нибудь про транссекс слышала? Про операцию по перемене пола?
Люся почувствовала, как на неё вдруг накатил страх – даже сильнее, чем в автобусе, – и опять мучительно заболела грудь. Она отодвинулась от Нелли.
– Ну, слышала. А что?
– Так вот, – быстро и сбивчиво зашептала Нелли, – только слушай до конца. Я мужиком раньше была, Василием звали, Василием Цыруком. Секретарём райкома комсомола. Ходила, знаешь, в костюме с жилетом и галстуком, всё собрания какие-то вела… Персональные дела… Повестки дня всякие, протоколы… И вот так, знаешь, идёшь домой, а там по дороге валютный ресторан, тачки, бабы вроде тебя, все смеются – а я иду в этом жилете сраном, со значком и усами, и ещё портфель в руке, а они хохочут и по машинам, по машинам… Ну, думаю, ничего… Партстаж наберу, потом, глядишь, инструктором в горком – все данные у меня были… Ещё, думал, не в таких ресторанах погуляю – на весь мир… И тут, понимаешь, пошёл на вечер палестинской дружбы, и надо же, Авада Али, араб пьяный, стакан с чаем мне в морду кинул… А в райкоме партии спрашивают – что ж это, Цырук, стаканы вам в морду кидают? Вам почему-то кидают, а нам – нет? И – выговор с занесением. Чуть с ума я не сошёл, а потом читаю в «Литгазете», что есть такой мужик, профессор Вишневский, который операцию делает – это для этих, значит, гомиков – ты не подумай только, что я тоже… Я без склонностей был. Просто читаю, что он гормоны разные колет и психика изменяется, а мне как раз психику старую трудно было иметь. Короче, продал я свой старый «Москвич» и лёг – шесть операций подряд, гормоны без конца кололи. И вот год назад вышла из клиники, волосы отросли уже, и всё по-другому – иду по улице, а вокруг сугробы, как когда-то вата возле ёлки… Потом привыкла вроде. А недавно стало мне казаться, что все на меня смотрят и всё про меня понимают. И вот встретила я тебя и думаю: а ну, проверю, женщина я или… Люся, ты что?