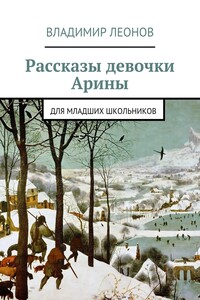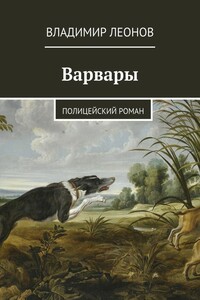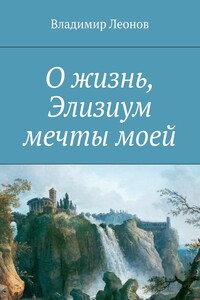«И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем».
Пушкин – поэт исторической гармонии, поэт Мысли и Разума. Сын своего рационалистического века, завещающий своим умом грядущим поколениям то имущество, которое будет служить всегда предостережением:
«Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам»
Список использованной литературы:
1. Лотман Ю. М. Пушкин, 1995
2. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», комметарий, 1981, 1983.
3. Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь.
4. И. Бражнин. Ликующая муза. 1974
5. А. Самарцев. А. С. Пушкин. 2006
6. Е. Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. 1982
Баратынский Евгений Абрамович
(1800 – 1844)
Дорический прекрасный певец
Тонкий и честный мыслитель, которого Пушкин назвал поэтическим Гамлетом, прошедший «все страстное земное»; тот, кто ценил только одну правду, одну красоту, это «красоту правды», примиряющей ноткой воспринимавший жизнь: «Пусть радости живущим жизнь дарит, а смерть сама их умереть научить»; борец с призраками, с иллюзиями, строгий и беспощадный, написал однажды: «Не призрак счастья, а счастье нужно мне».
И это его послание миру новому, грядущему, нам:
«Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью»
Е. А. Баратынский
русский «поэтический Декарт»
Евгений Баратынский родился в золотой век русской поэзии, в век элегий – принадлежал к литературному поколению, во главе которого стоял Пушкин. О Баратынском современник писал, что он самый неулыбающийся поэт. Одинокий мыслитель, чуждый общего праздника жизни, считающий жизнь вульгарным земным пиршеством. Стремящийся сохранить свое своеобразие, лица необщим выраженье, не слиться с ленивым умом толпы (его выражения). О толпе он заметил: « В сердцах корысть и общая мечта».
Вечный анализ, вечная горестная мысль: «Для всех один закон, закон уничтожения». Его назвали поэтом «Сумерек». Он не восхищается красотой, как делал это Пушкин. Он упивался только одной истиной, горькой как хмель, только правдой. И преклонялся только перед одной красотой, назвав ее красотой правды: «Я правды красоты даю стихам моим».
Баратынский не верит в мир удовольствий и наслаждений, не принимает его, этот пушкинский цветущий, чувственный, эпикурейский светлый мир.
Он певец боли – ведь как тень от солнца, боль всегда сопутствует наслаждению, вытекает из него, а зачастую вытесняет его.
Он певец холода, разочарования, страдания – вот что он ценит – без которых мир немыслим, без которых мир был бы неполон, пустоват. История вывела свою парадигму: необходимо после солнца Пушкина наступление ночи Баратынского. И подтверждение этой закономерности – название книги Баратынского «Сумерки».
Во вселенской картине миры поэзии нужен Баратынский, как дополнение Пушкина, как развитие Пушкина и как предупреждение Пушкина. Своим горьким охлажденным умом он уравновешивает безудержный, чувственный восторг Пушкина перед жизнью, вносит в нее равновесие:
«Живых восторгов легкий рай
Я заменю холодной думой»
Список использованной литературы:
1. О. А. Проскурин. Истинная повесть. 1990
Лермонтов Михаил Юрьевич
(1814 – 1841)
Вторично жизнь свою занять…
Лермонтов был уверен в своей правоте поднять меч Геракла – страстный призыв души к деяниям во имя жизни, страстный поиск обновления человека в могучей земной жизни.
В уста героя Печорина он вложил эту экспрессивную мятежную силу, проверяющую человека на прочность: «Нет, я бы не ужился с этой долею! Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойного брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится».
И сам поэт, и его поэтические образы – энергия бунта, протеста, титанической тоски и порыва. Он искал могучего проявления воли, приобщения к широким интересам времени. В его природе было что – то особенное, ему одному свойственное, что – то гордое и таинственное, сильное и подлинное без которых жизнь скучна и однообразна.
И. С. Тургенев так описал свое впечатление от встречи с Лермонтовым:
«В наружности Л. было что – то зловещее и трагическое; какой – то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно – темных глаз».