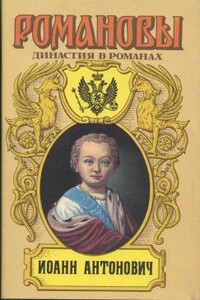Молодые люди бросились к своим галстукам и кафтанам, продолжая, с раскрасневшимися лицами, смущённо и безмолвно смотреть на гостя.
– Вот я и нарушил дружескую конверсацию, – сказал, поднявшись с кровати, Ломоносов, – знал бы, и не зашёл… Оставайтесь, господа, как есть, или я сейчас ретируюсь вспять.
– Помилуйте, как можно! ничуть-с… – восклицали, натягивая камзолы и прочее, оторопелые приятели Фонвизина.
– Мы играли в мяч, умаялись и закусываем, – объявил, глядя на приятелей, Денис Иваныч, – они зашли с ученья… А теперь позвольте: вот этот-с (он указал на круглолицего и долговязого, с крупным носом) – старый знакомец дядюшки по Казани, Преображенский рядовой и мой друг по любви к словесности, скромный писец любовных и всяких весёлых стишков, Гаврило Державин… Не красней, брат, не красней!.. А этот (указывая на плечистого и полного, в очках) его и мой приятель, капитан того же полка, Пётр Богданыч Пассек. Он-то и придумал сегодня пельмени… И оба они, Михайло Васильич, как и я, ваши поклонники…
Глаза Ломоносова радостно блеснули. Он отменно вежливо поклонился и, ласково глядя на упаренные, цветущие здоровьем лица молодых людей, рассказал Фонвизину о своём предстательстве за него у канцлера и у самого государя.
Денис Иваныч хотел было броситься к покровителю на шею и остановился.
– Михайло Васильич! – воскликнул он. – Как вас благодарить! Вот осчастливили, помогли…
– Резолюция канцлера, – заключил Ломоносов, – была, впрочем, сверх штата; государь, однако, велел вам дать жалованье… Только экзамент, друг мой, экзамент, без этого нельзя…
– Пустяки, – сказал, махнув рукой, Фонвизин, – съезжу в подмосковную, попрошу денег у бабушки или у тётушки – богатая бабушка там у меня, да какая! всего вас знает наизусть! и не далее конца месяца выдержу всякое испытание… Не хотите ли трубочку, Михайло Васильич? Вот пенковая, а вот и табак…
– Ну, и дело… С испытанием мешкать нечего… А вы, сударь, тоже любите слагать стихи? – обратился Ломоносов к Преображенскому солдату.
– По ночам-с, как улягутся в казарме, – несмело и запинаясь ответил Державин, – по ночам-с… мараю так себе, без правил, на рифмы кладу. У нас тесно, опять же солдатство не тем занято, амуниция, смотры – больше в карты, или в свободные часы за вином…
– Что же пишете? – спросил гость.
– Триолеты о красавицах, – произнёс, ободрясь, Державин, – побаски насчёт то есть разных полковых дел… А впрочем, пробовал перекладывать Телемака и Геллерта[155]…
– На какой же лад вы пробовали их?
– На образец, извините, вашему штилю подражал.
Ломоносов стал набивать трубку. Румянец выступил на его суровом исхудалом лице. Фонвизин делал знаки приятелям.
– А ну-ка, да ну же, из побасок что-нибудь, – сказал он, подмигивая, Державину. – Хоть это:
Я на то ль тебя спознал,
Для тово твой пленник стал?
Или это;
Ходит Бергер, – злы минуты,
Ко двору моей Анюты…
К вахтпараду припоздал,
В кордегардию попал…
– Ну, полно… охота! – перебил его, не зная, куда глядеть, растерявшийся Державин. – Такой ли пустошью занимать дорогого гостя?
– Трудитесь, государи мои, трудитесь, – сказал, раскурив и отставя трубку, Ломоносов, – вы наше наследие, преемники! Не давайте заглохнуть бедному, ещё соломенному нашему царству… Пробуждайте, воскрешайте мёртвую землю… Да чтобы в вашу душу не вкрались дурные какие упражнения и колобродства… Главное – труд! А без него ничего не поделаете. Хлеб, господа, за брюхом не хаживал. И много тёрки вынесет пшеница, пока станет белым калачом…
Разговорились о науках, о литературе; от них перешли к городским и дворским новостям. Пельмени были забыты. Мундиры и галстуки, по просьбе Ломоносова, снова сняты.
Вошёл ещё гость, лет восемнадцати, среднего роста, с большим покатым лбом, бледный, с чёрными, задумчивыми глазами и робкою улыбкой на добрых, мягко очерченных губах.
– Также ваш поклонник, – произнёс, указав на него, Фонвизин, – измайловский солдат и постоялец здесь во дворе дядюшки, Николай Иваныч Новиков[156]. А этот? – обратил ся он к Новикову, – верно, знаешь? Наш бессмертный Михайло Васильич Ломоносов… Ну, какие новости, друг? В сборной был? Что говорят?