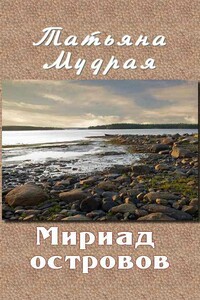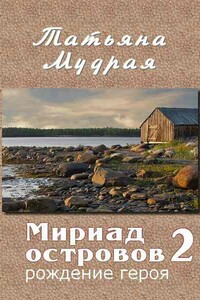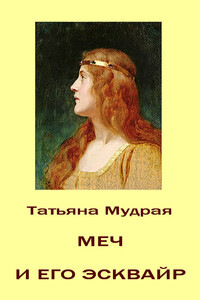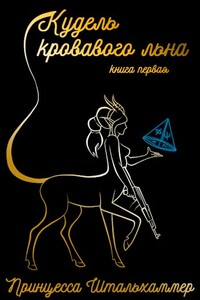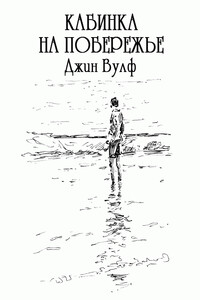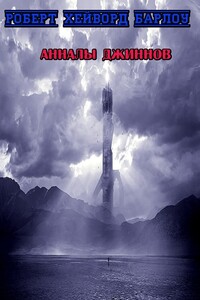Пока разговаривали, Мейнхарт черпнул варево из общего котла, попробовал с краю ложки:
— Добрая еда.
Наполнил две миски — себе и Галине, поднёс ей более полную.
— Эх, вот к этому бы хлеба, и сольцы, и чего-нибудь остренького, — вздохнула она под конец. Подумала — и высыпала в гущу содержимое ладанки.
Только успела заметить, как расширились глаза Мейнхарта, и без того огромные в полутьме, — и провалилась в сон.
…Вереница молчаливых людей и лошадей снова тянулась по гулкому неогороженному настилу, далеко внизу, где должна была быть вода безвременья, тянулась ухоженная лесостепь. Крошечные озёра в обводе из нарядного камня, купы дубов и ясеней, ручьи, зеркально сияющие посреди замшелых кочек, поросшие разнотравьем извилистые дороги, обсаженные земляничными и тюльпановыми деревьями, — всё вело в перламутровые города, сложенные из раковин, стразов и мыльной пены. Смотреть на это нужно было уголком глаза: стоило глянуть прямо — в надежде закрепить понравившуюся картинку, — как пейзаж мерцал, моргал и менялся, оставаясь, тем не менее, самим собой. Только изредка он сменялся тем, что должно было быть: туманом над замершей в беспамятстве рекой, чьи крутые скалистые берега одела изумрудная поросль — та же, что заполонила Верт. Небо было всё в густых тонких облаках, но в реке отразились иссиня-чёрная глубина, полный месяц и звёзды над острольдистыми вершинами.
Время за такими играми текло незаметно или его вовсе не было.
Настил внезапно ушёл в тёмный базальтовый песок, марево раздвинулось. Галина вздрогнула: перед ними вполоборота глядела тварь. Широкое упитанное тело в клочках рыжевато-серой растительности перетекало в голый хвост со странным треугольным навершием, как у копья, и было увенчано тремя плоскомордыми головами. Зелёные глаза и зубы, ощеренные в акульей улыбке, сверкали посреди такой же рваной шерсти, брови и усы грозно топорщились, на средней шее, самой длинной, сверкал крупными самоцветами ошейник.
Горячая рука с тонкими пальцами схватила женщину за кисть руки и удержала на месте. Чуть напряжённый голос проговорил:
— Десять тысяч лет жизни тебе, Триглавец.
— Того же и тебе, сын стальной матери и глиняного отца. Что тебе нужно?
— Того же, что и всегда. Я и люди, которых я веду, прошли по-над Иными Полями, которое ты сторожишь, и теперь хотим выйти в тот мир, откуда появились.
— По матери, Стальной Звезде, ты плоть от плоти здешних мест, по отцу — Вирта. Тебе самому не нужно моё разрешение: тем паче муж твоей матери подарил мне ошейник моего земного братца, Кота-Дубовика. Но караван я пропущу наверх лишь за выкуп. Как на этот счёт?
— Ты ведь пропускал моего отца, Триглавый.
— Он служитель Смерти, блюститель равновесия. Ему не нужно от меня никакой благодати, кроме той, что в нём самом.
— Эти люди тоже во всём таковы. Умеют ставить других на грань и сами танцуют на ней.
— Так ли? Полно, Сын Звезды, ты сам не веришь тому, что сказал. Наёмные катафрактарии.
— Да?
— Латные всадники на языке наших ахеян.
— Так оно и есть. Но их предводительница — куда большее, чем наёмник битвы.
— Ради неё я пропущу всех остальных. Но помни: выкуп лишь отсрочен на время. И берегись стоять близко от твоей нынешней госпожи: лишнее спросится.
Тут радужный и туманный шар оплотнился вокруг них всех, закружил их на невидимой оси…
…и выбросил из себя в коралловую пещеру.
Она оглянулась — и с первого взгляда не увидела никого вокруг себя. Только полутьму, утреннюю или вечернюю, что лилась через отверстие в куполе.
Со второго — заметила, что бок о бок с ней человек ткнулся лицом в циновку, стискивая её запястье. Волосы в свете масляной лампы отсвечивали тёмным багрянцем.
— Мейнхарт, ты зачем? Где остальные?
Он встрепенулся, убрал руку и поднял голову:
— Они разошлись по делам, когда увидели, что их водительница лишь отдыхает. Ибо моя мейсти упала в забытьё и не проснулась. Но сердца не потеряла, как я боялся. Никому из нас не пришло в голову, что ей вздумается мешать споры вещего гриба с ним самим.
Ловко перекатился на корточки, протянул ей толстостенную чашку:
— Выпей. Это тебя поддержит.