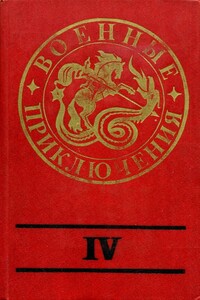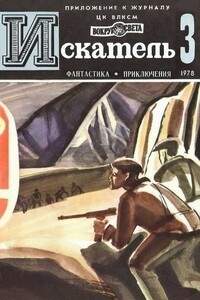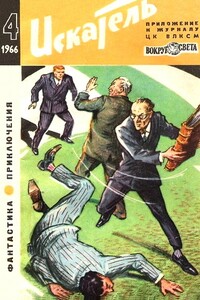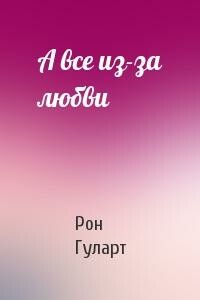Во-первых, вся она заставлена мебелью, так что даже почти незаметно, что здесь восемь углов. Мальчик-дошкольник с отсутствующим видом разучивает на пианино бетховенского «Сурка». В большие, высокие окна льется со двора непередаваемый поток звуков, но, видно, мальчик выделяет какие-то, касающиеся только его, призывы и с тоской поводит глазами на окна.
Женщина, наверное, очень удивилась, что я стою и ничего не говорю. Она выжидающе на меня смотрела.
— Скажите, пожалуйста, вы, случайно, не из семьи Головачевых? — спросила я. — Когда-то в этой комнате, но это было давно, еще во время войны, жил врач по фамилии Головачев. Вы ничего не знаете о нем?
Женщина наконец понимающе улыбнулась.
— Так вы разыскиваете родственников? Мы получили эту комнату уже после войны. Я и мама. И мы знаем только, что здесь все погибли. А больше ничего не знаем.
У меня оставалась маленькая-премаленькая надежда.
— Скажите, а когда вы въехали сюда, здесь не было ли каких-нибудь тетрадок, бумаг, документов?
— Нет, ничего не было, ровным счетом ничего. Два ящика с какими-то ржавыми замками. Мы их, конечно, выбросили. Кому они нужны! А так комната была абсолютно пуста: ни стола, ни стульев, ни кровати. А вы, наверное, родственница?
Я молча кивнула и вышла в темный коридор.
Мне не хотелось ничего говорить. Было ужасно муторно. Где искать виноватых, что единственная в своем роде коллекция старинных замков с секретами выброшена на помойку… Никто и не виноват. Просто так получилось. Но ведь точно так же может быть и не только с коллекцией замков, а с чем-то, ну, даже великим. Это ужасно… Нет, это глупо. Могло ли так случиться, что мы бы не знали ничего о Леонардо да Винчи или о Трое. Наверно, могло. И наверно, есть такое-не открытые еще художники, писатели или даже целые города. И ведь когда-то их откроют.
Вслед мне раздавалась трогательная и печальная бетховенская песенка.
* * *
В тот вечер у Ростислава Васильевича было что-то вроде совещания. Я докладывала.
— Так вот, дела мои на нуле. Ничего-то я не узнала. Ничего-ничегошеньки. Но я знаю, что вы сейчас скажете, что все идет нормально. А я вот считаю, что ненормально. Ростислав Васильевич, почему так ужасно?
— Что ужасно, дорогая Тата?
— Ужасно теряется память о людях. Это ужасно! Ну скажите, ведь правда это ужасно? Так не должно быть, ведь правда?
— Правда, Тата. Не должно быть!
Через два дня Ростислав Васильевич узнал адрес старика Калабушкина. И я пошла к нему.
…Я шла и, еще не разглядев номера, сразу угадала его дом. Он стоял в глубине улицы и был огражден высокой кружевной чугунной решеткой. Несколько старых корявых кустов боярышника разрослись словно деревья, а за ними был дом — двухэтажный, желтый, с ветвистыми трещинами и с чугунным, тоже кружевным, крыльцом. У крыльца были две высокие витые чугунные колонны, и казалось, только они и держали дом, иначе бы он повалился на землю. Этот дом вместе с садиком боярышника, и чугунной решеткой, и крыльцом был совсем не ленинградский, совсем не отсюда. Ну, например, как пение петуха в торжественном учреждении. И вместе с тем он на месте, как одна из тайн города. Ведь не может же город жить без тайн! Но почему я сразу узнала этот дом? Наверное, мама мне так хорошо его описала. Ах, нет же! Мама ведь даже адреса не знала. Узнала я дом потому, что сразу почувствовала, что мне надо сюда.
Я поднялась на крыльцо. На двери старинный звонок. Человеческая рука. Медная, с раскрытой ладонью и протянутыми к тебе пальцами, человеческая рука. Надо было дернуть за эту руку. Звонок издал едва слышное дребезжание. Дверь тут же открылась. Какая-то женщина с седой прической и в фартуке появилась в проеме, как будто она все время стояла за дверью.
Не успела я раскрыть рот, как женщина с седой прической стала говорить непонятные слова:
— Как хорошо, что наконец вы пришли. Он совсем, совсем плох. — И, перейдя на шепот, добавила: — Врачи говорят, что на этот раз никакой надежды…
Видно, женщина с кем-то меня спутала, и я только успела сказать:
— Скажите, Калабушкин…
Но женщина перебила меня:
— Давайте сюда ваш плащ и ступайте наверх.