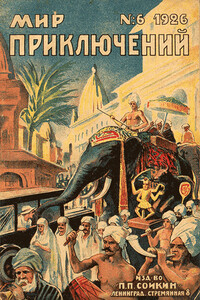К северу от алтаря тянутся ряды полок, на которых сидят в вечном размышлении Будды всевозможных сортов и видов: завернутые в желтые, усеянные блесками муслиновые шали, воздушность которых так причудливо контрастирует с их мраморной солидностью. либо же только выкрашенные в золото, пурпур, или осыпанные драгоценностями.
Сын Ма-Шве-Бвин, худощавый юноша, пятнадцатилетний Мунг-Кве-Иох, с раскосыми монгольскими глазами пол ярко-оранжевым головным платком, задрапированный в желто-синюю полосатую шелковую юбку нес в каждой руке по маленькому добродушно улыбавшемуся гипсовому Будде; почтительно посалив одного из них в сгиб своего локтя, он сильно ударил в колокол свободным кулаком.
За ним следовала. Ма-Сейн с третьим Гаутамой (Будда). У входа в часовню к ней вышел пунджий (жрец) — высокий, сухопарый, степенный. Заметив приближение женщины, он заслонил свои глаза веером из пальмовых листьев.
Почтительно отведя взгляд от бритого коричневого черепа пунджия, Ма-Сейн изложила свое желание, и тогда вышел второй монах. Усердно помолясь, они поставили-трех Будд на пустую полку, рассыпали перед ними сладко пахнущие цветы и понатыкали бумажных «молитвенных флажков».
Не жалея дорогой юбки, Ма-Сейн спустилась затем на колени и поклонилась, стукнувшись лбом прямо в пыль, в пылу самой страстной в ее жизни молитвы.
Мунг-Кве-Иох, поставив на полку три крохотных глиняных лампадки, молился вместе с нею, ибо они были друзья с раннего детства. Он чувствовал, что, будь это в его власти, он с восторгом бросил бы негодного Мунг-Сан-Ка на съедение карпам Ирравадди.
Затем они поспешно удалились по тропинке между разрушенными жертвенниками, пугая ящериц и задевая ползучие растения; пора было ехать, ибо от Чинна-Шве до Бгамо было добрых четыре километра, а джунгля, особенно в сумерки, кишит леопардами.
На другой день и на следующий Май-Сейн возвращалась к храму, с надеждой, но и с отчаянием — ибо она узнала, что Мунг-Сан-Ка подарил уже Ма-йин кусок шелка и гребень.
Она готова была побросать своих Будд на пол — ужели и х заслуг недостаточно? Она готова была потребовать чуда, грозить удавиться — сделать что-нибудь безумное, дикое — но ее пылкие мольбы оставались без ответа.
— Услышь меня! Подай мне помощь, о милосерднейший! — яростно взывала она. — Прими мою жертву, и я принесу новые — я буду творить шико (молитву) трижды в день всё дождливое время! Услышь меня, или я буду искать мира в новом теле (это значит: покончить самоубийством). Сотрясаясь от рыданий всем своим худеньким телом. Ма-Сейн уходила после молитвы домой.
* * *
Следующее утро было прохладное, мягкий ветер тянул из леса, с вершины Чинна-Шве открылась дивная картина отдаленных гор, и когда солнце поднялось высоко, к пагоде приблизились два других паломника, составлявших резкий контраст Ма-Сейн и Мунг-Кве-Иоху.
Блестящий юноша в ослепительно-белой шляпе и кремовом шелковом костюме вел изящную английскую барышню в голубом полотняном платье по неровной тропинке к жертвеннику.
В этом щуплом юноше, таком небрежном на вид, никто не заподозрил бы человека с железными нервами и изумительной предприимчивостью, а между тем это был герой смелых подвигов в джунгле, которых хватило бы на материал для воспоминаний шестерым путешественникам, и вдобавок — превосходный охотник за крупной дичью.
Это был один из белых начальников Мунг-Сана-Ка, служивший в крупной лесопромышленной фирме дозорным над большим лесным участком. Он явился из лесов, чтобы встретить вышеупомянутую девушку и ее тетку, совершавших увеселительную поездку по реке.
Его рассказы о дикой жизни в лесах и бирманские легенды о людоедах и духах заронили в головку девушки увенчанную волной каштановых волос золотистой бронзой выбивавшихся из под края белой шляпы, своенравную мысль.
— Какие забавные Будды! — вскричала она, когда они приблизились к храму. — Посмотри на этих трех! Дик, я непременно хочу иметь вот этого, среднего! Ну, право же, он нам улыбается! Как ты думаешь, очень будет дурно, если я его украду? Ты говоришь, что они никогда не ремонтируют пагод, когда те разрушаются. Я уверена, что никто не хватится