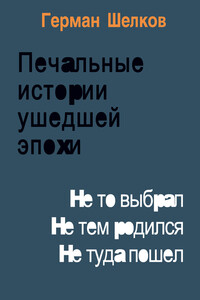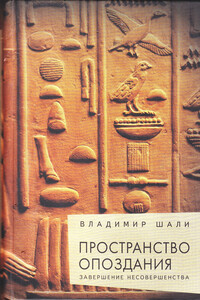Он не скрыл ничего от Теи. Они сидели в его комнате и молчали. За окном уже давно стемнело.
— Ты голоден? — спросила наконец Tea. Спросила шепотом. Никос, не отвечая, поднялся со своего места и взял ее за руку. Они лежали в темноте, лежали молча, лежали, обнявшись.
— Положи свои ладони на мое лицо, — попросил Никос. — Обе ладони, Tea, дорогая…
Наконец он уснул, так и не разжимая объятий. Tea прислушивалась к его дыханию и шептала про себя: «Боже… Иисус милосердный, прошу тебя… не убивай его тоже… Лучше убей меня. Я не дорожу своей жизнью — возьми ее. Ведь я все равно умру, если и этот человек погибнет из-за любви ко мне. Дай мне знак, если ему грозит опасность. Дай мне знак, и я спасу его, отошлю обратно и никогда больше не увижу. Только не убивай его, Боже».
Она молила о знаменье, которое в далекие времена Бог посылал своим пророкам. Но то были пророки… а к простым девушкам, будь они даже божественно красивы, это не относилось. Девушки, которые — если верить словам их возлюбленных, — были похожи на богинь, должны были полагаться только на себя: слушать голос собственной крови, прислушиваться к сигналам, идущим из бездны их любви, и радоваться беззаботной сладости убегающих минут, помня, что в конце долгого жизненного пути их все равно ждет старость и смерть.
Когда-нибудь.
Но пока что… пока что до этого так далеко… «Оле, тореро!» — шептала Tea своему греческому матадору, прижимаясь к нему своим пылающим телом в те считанные ночи, что оставалось им еще провести в этом провинциальном городишке. Ей казалось, что она никогда не пресытится этой бесконечной любовной игрой; Никос был совсем не похож на того несчастного Г. Р., омертвевшего при жизни юношу, утерявшего свою мужскую ипостась в Итоне, пусть даже Оксфорд и вернул ему некое подобие уверенности и чувства собственного достоинства. Он был изначально обречен на долгие годы прозябания, на то, чтобы остаток своей оскопленной жизни провести взаперти, приумножая семейные богатства в отцовской конторе; финал, и это было неминуемо, поджидал его на посту какого-нибудь министра в кабинете консерваторов. Кто знает, может быть, он и стал бы когда-нибудь настоящим мужчиной… Но конечно, никогда не быть ему таким, как Никос. Этот Никос Трианда… он сводил ее с ума. Он и сам выглядел буйно помешанным, но его сумасшествие, казалось, только удваивало его силы. И разве важно для той, что обнимала его горячими руками, что им владела в эту минуту не только страсть к ее телу, но и безумная идея возрождения древних народов… Если так, то да здравствует возрождение!
В одну из таких горячечных ночей Tea спросила:
— Ты мог бы убить человека из-за любви ко мне?
Никос закусил губу.
— Я мог бы убить тебя. И себя тоже.
— А между мной и собой — твоего соперника, да? — подвела итог Tea. — Да или нет?
«Она презирает меня, — подумал Никос. — Она прикрывается сейчас тем, незнакомцем… говорит от его имени». Опять привидение встало между ними, отнимая у него Тею. Но на этот раз он не выпустит ее из рук.
Они уехали в Лондон, и Никос поселился в одной из комнат в квартире, где жили ее родители; он получил официальное приглашение провести в этой семье те дни, что остались у него до отъезда в Мадрид. По ночам, лежа в пустой кровати, от сходил с ума от тоски по Тее, по запаху ее тела; сон не шел к нему. Он лежал в темноте, широко раскрыв глаза. И вновь возвращался он к письмам — десяткам и сотням, что хранились в большом ящике; вновь думал о письмах Теи, посланных незнакомцу в ответ. Он сам писал их — тоже десятками. Он перевоплотился в Тею. Его ответные письма были полны отчаяния и страха.
И Tea, лежа одна в своей комнате, не переставая думала о тайном агенте, наваждении ее жизни. На этот раз мысли о нем волновали ее, как никогда. Сердце ее разрывалось на части. Она не вспоминала о Никосе. «Ты не можешь со мной так обращаться, — жаловалась она темноте, скрывавшей призрак. — Приди, наконец. Если ты жив — приди… А если ты мертв — дай мне знак. Я так больше не могу…»
Но тайные агенты могут дать знак только посвященным. В этом они подобны Создателю. В отличие от Него они могут страдать, пусть даже заставляя при этом страдать кого-нибудь еще.