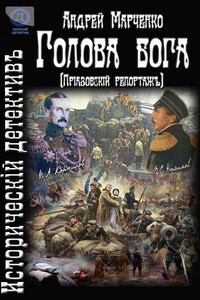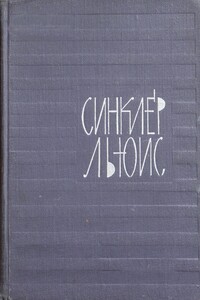Братья переглянулись, и Фрол говорит:
– Сымай, раз так.
И вижу: не торопятся они мне помогать. А я ведь не люблю мертвяков. С одной стороны – тихие, никем не норовят покомандовать, с другой… Не люблю, и всё тут. Но целковый – есть целковый. Я когда до войны на заводе жаток работал, мне хозяин за смену столько платил. Пока немца ворочал, раздевал, заметил, что легкий он какой-то.
Кожанку-то я снял, в руках покрутил, да в мешок к себе спрятал. Только раз и примерял – коротка она мне, да в плечах узка тогда была. Немецкий летчик махонький был – иначе как бы он в аэроплан влез. А я – сами изволите видеть. Так что думал я латки поставить, а после сменять на махорку или сахар.
Заметил ли я тогда что-то? Так точно, заметил. Кожанка-то словно из единого шматка кожи сшита. А даже не сшита… Как же объяснить-то… Швов на ней не было. Странное дело, конечно… Но немцы аэропланы, дирижабли, газы выдумали. Чего бы им кожанку без швов не сочинить?
Что после стало? Улита едет – когда-то будет.
После нас в бой кинули – не до кожанки стало.
Молебен провели, а после наш полк и панцирный дивизион против австрийцев в атаку послали. Думали, видать, что мы фронт прорвем, а далее ударники в прореху вклинятся. Да не сложилось. С передовых позиций и первой линии окопов мы австрияк выбили.
Далее панцирники где днищем на бруствер сели, где в воронке застряли, где подбили. А без них атака и захлебнулась. Лавра на мине ранило между окопами, Фрол брата полез спасать – его из пулемета и срубило – даже и крикнуть не успел. Ну а Лавр позже умер, на ничейной полосе. Пецулевича опять же пулей царапнуло – он за это Анну на шашку получил. Мне осколком порвало полу шинели, да с убитого австрийского унтера снял крохотный пистолет системы Фроммера.
Вот и весь толк с атаки до копейки.
Ударники в тылу остались курить, а мы две недели в окопах просидели – голову поднять боялись. Их артиллерия по нам била. Сидишь в окопе, кашу ешь, а тебе в миску земля сыплется. В атаку, австрияки, конечно, ходили, ну и мы тоже вылазки устраивали.
А как отвели остатки полка в тыл, снова я про кожух вспомнил, достал его на свет, осмотрел. Мать честна! Нет прорех! Все дыры куда-то делись. Так я собственными глазами видел, как ее пулями решетили!
Стал кожу рассматривать, вертеть – нет нигде изъяна. Порылся по карманам – думал, может, она еще пятаки да гривенники печет, или что там у германцев. Да тьфу ты! Дохлого мыша вытащил. Он, видать, в карман залез погреться, да издох, задохнулся. Уж не пойму, отчего он не прогрыз себе выход.
Гляжу, Васька Малый издалека кожанкой любуется. Подошел поближе, говорит:
– Я, конечно, извиняюсь, да только уступи мне тужурку. Всё равно носить ее не будешь. Мала она тебе.
Тогда я на Ваську внимательно посмотрел. Звали Малым, во-первых, чтоб отличать от Василия Большого, во-вторых, оттого что был он действительно росточку не огромного, ну и в-третьих и в-главных – потому что фамилия у него такая. Но всё же покрупней он немца был.
– Да тебе она зачем? Тоже ведь жать будет.
– А мне для фасону надо, для форсу. Бабам в деревне скажу, что я с броневиков. Ну, так что, продашь?
Кожанка-то ладная. С одной стороны – дыры сама затягивает, но с другой – мыша в кармане. А деньги – они всегда нужны.
– Тридцать рублей, – отвечаю.
– Да ты что! Креста на тебе нет! Я до войны за двадцать целковых себе пальто шил! Семь рублей! Больше всё равно нет.
– Так то до войны было, сейчас пойди, походи по базару. Двадцать пять.
Столковались с ним за двенадцать рублей – семь он мне сразу отдал, да пятерку позже обещал. Рубль я сразу в лавку снес. Махорки купил, да из-под прилавка полуштоф самогона. Вышел из лавки, скрутил самокрутку, а огня-то нет. Спросил у нашего нового вольнопера. Тот спичку протянул и вкрадчиво спрашивает:
– Доколе, товарищ, мы свою кровь за империалистов проливать будем?..
– За огонь, – отвечаю, – спасибо. Но шел бы ты к черту?..
Вот и поговорили.
Уж не знаю что именно, но бабы в Малом чего-то находили. Сие показывает, что бабы вообще – народ неразумный. Под стать росту и норов у Васьки был – мелкий, суетливый. Говорить красиво мог – это да, язык – что помело. Только по глазам видно было – врет ведь, каналья.