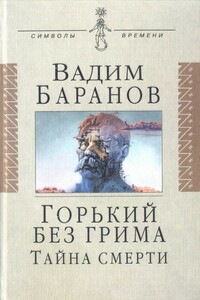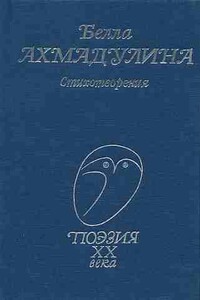Памяти Венедикта Ерофеева
Слова заупокойной службы утешительны: «…вся прегрешения вольныя и невольныя… раба Твоего… новопреставленного Венедикта»…
Не могу, нет мне утешения. Не учили, что ли, как следует учить, не умею утешиться. И нет таких науки, научения, опыта — утешающих. Наущение есть, слушаю, слушаюсь, следую ему. Себя и других людей утешаю: Венедикт Васильевич Ерофеев, Веничка Ерофеев, прожил жизнь и смерть, как следует всем, но дано лишь ему. Никогда не замарав неприкосновенно опрятных крыл души и совести, художественного и человеческого предназначения тщетой, суетой, вздором, он исполнил вполне, выполнил, отдал долг, всем нам на роду написанный. В этом смысле — судьба совершенная, счастливая. Этот смысл — главный, единственный, всё справедливо, правильно, только почему так больно, тяжело? Я знаю, но болью и тяжестью делиться не стану. Отдам лишь лёгкость и радость: писатель, так живший и так писавший, всегда будет утешением для читателя, для нечитателя тоже. Нечитатель как прочтёт? Вдруг ему полегчает, он не узнает, что это Венедикт Ерофеев взял себе печаль и муку, лишь это и взял, а всё дарованное ему вернул нам не насильным, сильным уроком красоты, добра и любви, счастьем осознания каждого мгновения бытия. Всё это не в среде, не среди писателей и читателей происходило.
Столь свободный человек — без малой помарки, — он нарёк героя знаменитой повести своим именем, сделал его своим соименником, да, этого героя повести и времени, страдающего, ничего не имеющего, кроме чести и благородства. Вот так, современники и соотечественники.
Веничка, вечная память.
О Николае Эрдмане, о его трагической судьбе — как общей, обязательной для всех, кто так или иначе причастен этому времени, — думают, воздумают, пишут и напишут.
Эти биографические и исторические сведения уже могут быть доступны вниманию неленивого читателя. Я — лишь о том, что я помню и знаю.
Впервые я увидела Николая Робертовича Эрдмана днём расцветшего лета в посёлке Красная Пахра, вблизи Москвы. Я относительно молода была, но его имя, былая слава, две пьесы, стихи и сюжет судьбы были мне известны: по наслышке и недозволенному чтению. Николай Робертович в ту пору снимал малый домик в этом посёлке, времянку или сторожку, как принято говорить в дачных местах. Времянка эта или сторожка, наверное, и теперь сохранна во времени, пусть живёт-поживает, сторожит воспоминания. Уверена, что хозяева её больших денег с постояльцев не брали.
Соседи этого условного обиталища Верейские (художник Орест Георгиевич и жена его Людмила Марковна) сказали мне, что Николай Робертович приглашает меня увидеться с ним. Не совсем так — его тишина, скромность и любезность превосходят мою почтительность. Я пришла — он не сразу вышел, или я пришла раньше, чем указали, а он вышел из комнаты, но несколько минут оставалось до встречи. Там висела ситцевая занавеска, отделяющая кровать. Из-за ситцевой изгороди вдруг протянулась рука и донёсся слабый голос: «Подойдите сюда». Это были рука и голос матери жены Эрдмана Инны. Оказалось, что именно ей, не зная её имени, по просьбе её подруги, я послала письмо и стихи, когда она претерпевала тяжёлый инфаркт. Незначительное моё послание она приняла за ободряющую, сторонне спасительную весть. Я упоминаю эту подробность не потому, что спешу отправиться в ад, где найдётся место и тому, кто сделал как бы что-то доброе и предал огласке, такое добром не считается, совсем наоборот. Нет, потому лишь упоминаю, что жизнь, в проживании её и описании, состоит не из расплывчатой бесформенности, а из точной совокупности подробностей, из суммы их, где важны лишь слагаемые.
Что-то безвыходное, обречённое было указано и продиктовано мне той рукой, тем голосом. Не меня касалось предопределение, но сбылось.
И сейчас вялый одушевлённый ситец, тогда сокрывающий кровать и болезнь старой женщины, с которой заведомо соотнёс меня любовный произвол неведомого сценариста и постановщика, отвлекает память зрения от яркого летнего дня, от ожидаемого и неожиданного лица и силуэта. Николай Робертович вошёл, занавеска ещё пестрела и рябила в глазах, но правая ладонь уже приняла в себя благовоспитанность, кротость, доброжелательность рукопожатия. Его врождённая хрупкость, поощряемая, если так можно сказать, обстоятельствами жизни и потом доведённая до совершенства, — не знаю: восхитила или испугала меня. Такая бесплотность — изящная доблесть, но и несомненная выгода в условиях, где и когда не дают есть или нечего есть. Малым прокормом обходится такая лёгкая плоть. Лицо содеяно не из броской видимости примет и очертаний, первый взгляд читает… да, пожалуй, так… давнюю привычку лица не открываться для беглого прочтения первым взглядом.