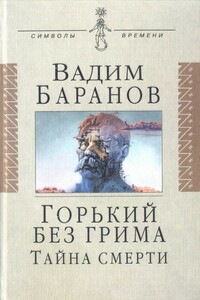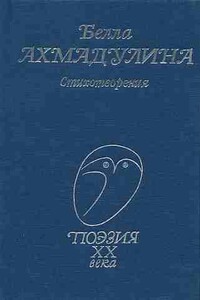Но, пока строился упомянутый дом, — был у меня день совершенного счастья, вот каков был. Растения росли, животные ластились к человеку, боле других помню большого дворнягу с перебитой и исцеляемой, уже исцелённой лапой, звали: Рыжий. Другие собаки и кошки сновали возле цвели цветы (ими, животными и растениями, был полон участь-участок). Дом, ни в чём, кроме тщетности усилий, не повинный, — возводился. Николай Робертович и я сидели вдвоём в… что-то вроде беседки уже было возведено или осталось от чьей-то бездомности, домовитости. Сиял день — неописуемого золотого цвета, отражённый в рюмках коньяка, в шерсти оранжевой собаки, в бабочке, доверчиво сомкнувшей крылья на грани отблеска, в этом лишь гений бабочки сведущ.
Если назвать беседкой прозрачное укрытие, сплетение неокрепших вьющихся растений, всё же не назову беседой моё молчание и радость смотреть на моего собеседника, на цвет дня, на солнце, наполняющее рюмку в его изящной руке…
Тот день счастья, с его солнцем, растениями, животными, — навсегда владение тех, о ком вспоминаю и думаю с любовью.
Евгения Семёновна Гинзбург умерла 11 лет назад. Я имела честь и счастье знать её лично. И счастлива тем, что судьба дарит возможность многим людям тоже познакомиться с этой удивительной женщиной. Потому что хроника её — совершенная исповедь, где нет ни одного слова лукавого или обольстительного. Где нет и тени опустошённости и озлобленности.
«Каторга! Какая благодать!» — называется одна из глав. Это строчка из стихотворения Пастернака. Весь свой восемнадцатилетний крутой маршрут Евгения Семёновна прошла со стихами в душе. Самые ужасные обстоятельства способен вынести человек, если ему есть чем жить внутри себя. Хотя бы стихотворной строкой.
Рукопись посвящена внуку Алёше. Также звали и сына Евгении Семёновны, который погиб в детприёмнике для детей заключённых неизвестно когда и где. Какова же должна быть духовная оснащённость слабой женщины, чтобы вынести всё это и пронести через мученическую жизнь неисчерпаемый запас доброты?! Поверьте, вы найдёте ответ в книге, которую я считаю дважды великой: и как талантливейшее художественное произведение, и как достовернейшую хронику величия человеческого духа.
Один из экземпляров рукописи хранится у меня много лет. В последний раз перечитывала её полгода назад. Перечитывала, совершенно не веря в возможность публикации. И сейчас не смею поверить. А Евгения Семёновна Гинзбург верила всегда, о чём и написала в предисловии. И если это всё-таки произойдёт, я буду считать себя совершенно счастливой. Потому и спешу поделиться своим счастьем с будущими читателями произведения, чьё название и имя автора пока им ни о чём не говорят.
На мгновение забудем о Моцарте. Написала так, не забыла, а вспомнила, слышала таинственный, укоряющий, непререкаемый звук и нечаянно вникала в пристальный труд Альфреда Эйнштейна «Моцарт. Личность. Творчество». Я упоминаю об этом лишь затем, чтобы далее и ниже не тревожить имя Моцарта, оставить его в стороне надземного обитания.
На этот раз — я только о Генрихе Сапгире. Соседствуя с ним во времени имеете жительства, я всегда радовалась его таланту, не однажды смеялась от радости, что — талант, люди, не оснащённые этим свойством и качеством, не умеют рассмешить собеседника и читателя. Я приходилась ему и тем, и другим, но между Сапгиром и широким кругом читателей неопределённо виделась и чётко ощущалась препона, не зависящая от достоинств автора и этого возможного круга. Какая-то часть его творчества распространялась устной оглаской и стала сведением наслышки, имуществом сознания наподобие фольклора. Но многие дети (и мои) хорошо знают его сочинения и соответственно остры умом, отвергающим заведомую и насильную схему. Независимая игра мысли и вольность усмешки над предписанной, а не выбранной неоспоримостью изначально составляют дар Сапгира и наверняка осложняли сюжет его существования и благоденствия.
Я из тех, кто считает дар другого человека даром всем нам и мне, и ответно желаю пригодиться хотя бы скромным соучастием и добрым словом.