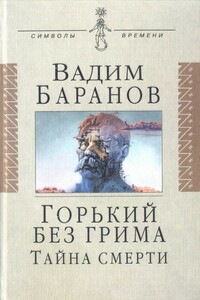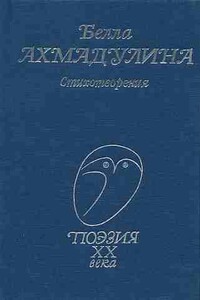Я знаю Нодара столько, сколько помню себя в соотношении с Тбилиси, в соотношении с Грузией. Мы умели смешить друг друга. Когда он однажды хворал и мне сказали что лучше его не беспокоить, я всё-таки помчалась к нему домой и стала шутить и говорить: «Ах, это всё пустое, Нодар! Ничего, как-нибудь всё это обойдется!»
Когда я печалилась, Нодар смешил меня. Я знаю, что он пришёл для того, чтобы причинить людям радость, может быть, самой драгоценной чертой его человеческого таланта (я сейчас уже не говорю, что хорошо помню его блистательное литературное начало, то начало, которое принесло ему успех и всеобщее признание). Я думаю, что черта смеяться и смеяться как бы не над тем, что вокруг, а именно как бы над собой, смеяться над печалью, которая тебя именно осенила, может, и была той драгоценностью, которая входила в талант Нодара. Правда, я знаю, что, кроме того, что он сделал для людей как писатель, он старался помочь им как-то иначе, то есть разными способами, поскольку у него были такие возможности, и знаю, как много он делал. Однажды, я помню, мы были участниками одной поездки, возвращались поездом в Тбилиси, и я ему сказала: «Нодар, ты хочешь помочь очень многим людям, и у тебя для этого есть самые разные способы и возможности, но не отвлекает ли это тебя от твоего художественного дела? Может быть, главная помощь, которую художник может оказать и причинить другим людям, — это только его творчество».
Нодар тогда мне ответил: «Но иначе не выходит. Тот художник, который может художественно помочь людям, он нечаянно ещё всасывается в разные проблемы человеческого существования и хочет им помочь даже в чём-то малом».
Я говорила о том, что мы много смеялись, всегда, даже когда Нодар был болен. Я, кстати, всю его семью и детей его так люблю, и они это знают. И хочу сказать, что, если человек пришёл на белый свет не для того, чтобы опечалить того, кто его видит и кто его слышит, пусть мы всегда будем думать о Нодаре Думбадзе как о человеке, который умеет смеяться, и тут просто несколько строчек из моего стихотворения: смысл так прост, что уста человека, которые даны ему для изъявления души, могут открываться только по благородному поводу, и, пожалуй, этими строчками я завершила бы то, о чём говорила:
Но если так надобно
Снова, не зря, не для зла, неспроста,
Но только для доброго слова, для смеха
Откройтесь уста!
Не помню, как мы познакомились. Да мы и не знакомились вовсе; мы учились вместе в Литературном институте, виделись мимоходом и часто на Тверском бульваре, в Переделкино, кивали друг другу с торопливой приветливостью, а сейчас редко встречаемся.
Но когда я вижу что-нибудь синее, оранжевое, золотое — любую милую яркость, которой одаряет нас мир, я вспоминаю юношу в блёклом лыжном костюме и своё нежное уважение к нему, к его восприимчивости к тем краскам, что украшают жизнь своим живым семицветьем. Вспоминаю, как однажды, давно уже, мы столкнулись с ним в долгом вечернем сумраке опустевшего институтского коридора, и я заметила, что он невелик ростом, а в скромном, тихом лице его есть второе, глубокое выражение: какой-то страстной сосредоточенности и доброй печали. Может быть, это остро-чёрные, пристально нацеленные в упор зрачки придавали его простым чертам многозначительность. Я знала о нём, что он — чуваш, из маленькой далёкой деревни, и в Москве недавно.
— Ну, как дела? — спросила я на ходу.
Он быстро глянул своими, словно остроконечными, метко видящими зрачками и, простив мне условность вопроса и радуясь собеседнику, рассказал мне о своей деревне, как он скучает по ней, как сильно окрашено всё там: небо, ягоды, вода, глаза лошадей, и всё такого прекрасного, всеобъемлюще синего цвета.
Впервые я услышала о его стихах от Михаила Аркадьевича Светлова: он всем нам причинил то или иное добро, но хвалил нас не так уж часто. Юношу в синем костюме он, не остерегаясь, хвалил.
Впоследствии я эти стихи слышала, читала перечитывала. Они могут показаться сложными, несколько витиеватыми, но мне думается, что не нарочитость виной тому, а серьёзная и подлинная сложность, которую ощущает в мире и в себе юный, наивно-проницательный человек, сильно, азартно устремивший в жизнь зрение, слух, руки. Он пристально смотрит вокруг, и нет такой малости, которая не показалась бы ему значительной, располагающей к раздумью. В будничном, привычном он отгадывает возвышенность и красоту, делает их предметом искусства. Многие чудеса поражают его: поезда, мелькнувший фонарь, такой таинственно-светлый, как будто маленький Пимен поместился в нём и завершает сказанье, белый архипелаг сада, дивный овал человеческого лица, человеческие выдумки и творенья и всё, чего так много и из чего и возникает постепенно непростой и прекрасный мир, близко подступающий к глазам. И как щедро, буйно и родимо этот мир расцвечен: в нём и радуги, и Йиржи Волькер, и чёрный куст в розовом пространстве, и лиловые маляры.