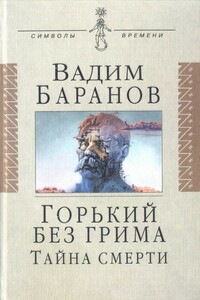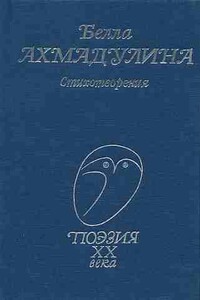Когда Семён Степанович говорит, в нём открывается целый театр: в остром, примечательном лице хватает простора для множества действующих лиц, в большом, старинном голосе спорит и пререкается их многоголосье, вдохновенно и хищно парит пустой рукав. Вы скажете: ну вот, возможно ли поминать пустой рукав? Ничего, возможно, ведь это уже не отсутствие руки, потерянной на войне, это присутствие крыла, указующего, заманивающего. Этот невиданный-неслыханный артистизм — тоже достопримечательность заповедника, но в нем нет собственной корысти: это верный способ одарить нас Пушкиным, наградить им, осыпать с головы до ног.
Чтобы ваш, мой и каждого Пушкин вольготно населял эти комнаты и аллеи, Гейченко не навязывает ему своего хотенья: откуда-то ему точно известно, что Пушкину угодно и удобно. Прилежный человек спросил: неужели Пушкин не тяготился нетопленными печами и довольствовался простецким видом дома и усадьбы? Семён Степанович и на это ничего не сказал, а дворовый Пётр, бывший кучером, засмеялся из давно минувших дней: «Наш Александр Сергеевич никогда этим не занимался, чтоб слушать доклады приказчика. Всем староста заведовал; а ему, бывало, всё равно, хошь мужик спи, хошь гуляй; он в эти дела не входил». А может, и есть меж ними — Пушкиным и Гейченко — какие-нибудь дружественные несогласия, об этом я не берусь судить. Ведь здесь действуют не личность и тень, а две личности, и вторая оснащена собственным немалым талантом. Может быть, к этому сводится тайна, позволяющая поэту бодрствовать в михайловских рощах? Кроткий исследователь, ставший как бы тенью великого человека, повторяет его меньше, чем соучастник, достойный товарищ, на которого смело можно оставить дом, сад, рукописи, недогоревшую свечу и отправиться в Тригорское, а если позволят, и в Петербург.
Солнце убывает, мороз крепчает, четырнадцатый день февраля на исходе, хозяйка всё хлопочет, хотя стол совершенно и чрезмерно накрыт, медленно синеют сугробы, и мне надо спешить, чтобы успеть добавить ко всем речам, письмам, тостам и телеграммам признание в пылкой и почтительной нежности.
Я пишу все это десятого апреля, при сильном весеннем солнце, в день моего рождения, тридцати восьми лет от роду. Я имею в виду написать статью о поэте, для меня драгоценном, и знаю, что ничего из этого не выйдет, потому что — разве пишут статьи о нежности, теснящей сердце, о безрассудной приязни ума? В изначалье нового возраста сижу за столом, улыбаюсь и не умею писать.
Сколько же лет, как много лет назад это было! Ведомая непреклонной сторонней силой, которую для быстроты можно назвать судьбой, я шла по Москве той давней ослепительной зимой, и пылание моих молодых щёк причиняло урон снегопаду: сколько снега истаяло на моём лице, пока я шла! Прихожу. Литературное объединение завода имени Лихачёва. Это даже не робость — уж не смерть ли моя происходит со мной в мои семнадцать лет? О, как я страшусь и страдаю, как мне тяжела моя громоздкая нескладность (это моя прелесть была), как помню я это теперь, как глубоко уважаю муку — быть юным. Спрашиваю надменно: «Это вы — поэт Евгений Винокуров?» Жадно подсматриваю за его лицом: не таится ли в нём усмешка взрослого высокомерия? Но вижу лишь выражение совершенной благосклонности и пристального любопытства. Евгений Винокуров в ту пору руководил упомянутым объединением, и я стала руководима, его лёгкой рукой водима по началу жизни, которое — из-за Винокурова, лишь по причине его поощрения — весьма счастливо сложилось. Этот первый его урок — расточительной доброжелательности, свойственной людям прекрасного дара, я надеюсь если не вполне усвоить, то вполне отслужить. Потом, к лучшей моей радости, мы стали коллеги, товарищи и ровесники, но тогда между мной и первым моим учителем зияла бездна разницы, в которой смутно клубились моё чудовищное невежество (Винокуров был поражён им, но не раздражён), угрюмая застенчивость под видом апломба и страсть писать, воплощённая в длинные вялые строки. Не к моим достоинствам, но к таланту Винокурова отношу я его доброе и сильное участие к моим бедным детским стихотворениям которые он — впервые и лишь собственным усилием — напечатал со своим предисловием, и других людей пригласил к интересу к моей фамилии, звучавшей так непривычно и витиевато.