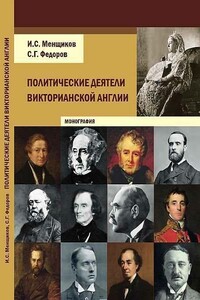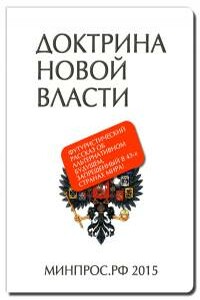Итак, полная формула интеграции экологии и политики, которая выводит данную проблематику на глобальный уровень, звучит следующим образом: «<...> по окружающей среде и устойчивому развитию». Этот оборот включен в название соответствующего комитета Межпарламентского союза — одного из институтов, отвечающих за трансформацию мирового порядка (курс. — Авт.).
Теперь об основных этапах эволюции концепции «устойчивого развития». Чтобы не изобретать велосипед, обратимся к изложению этого вопроса все тем же горбачевским словарем, оставив, разумеется, за собой право прокомментировать высказываемые им тезисы.
«<...> Первоначально (1970-е гг.) на первом плане оказались проблемы ресурсных ограничений экономического и демографического роста; затем (1980-е гг.) вперед выдвинулись проблемы загрязнения окружающей среды и угрозы глобального экологического кризиса; в 1990-е годы все более утверждалось понимание того, что устойчивое развитие имеет не менее важное социальное измерение, связанное с поляризацией богатства и бедности, проблемами структурной безработицы, „старения" населения и обусловленного этим государственного долга, бремя которого ложится на будущие поколения. Интерес к идее устойчивого развития, вызванный публикацией доклада Комиссии Брунтланд, на протяжении 1990-х годов несколько ослабел в атмосфере напористой западной пропаганды неолиберального рыночного глобализма»>107 (курс. — Авт.). Итак, следим за руками «наперсточников». Формально в 1970-е, 1980-е и 1990-е годы приоритет действительно отдавался соответственно ресурсам и демографии, окружающей среде и «борьбе
с бедностью». Так это выглядело, по крайней мере, внешне. Подмену понятий упрятали на второй план.
Куда конкретно?
Во-первых, тезис об «ослаблении интереса к идее устойчивого развития» в 1990-е годы явно призван отделить приписываемое данной концепции «социальное измерение» от компрометирующей ее неразрывной связи с «неолиберальным рыночным глобализмом». Это не что иное, как пропагандистская спецоперация. «Устойчивое развитие», как по мановению волшебной палочки, из «неолиберального, рыночного и глобалистского» становится якобы «подлинно демократическим и социальным». Затушевывалось главное, о чем мы подробно расскажем ниже, а именно: то, что порядок и беспорядок, глобализация и антиглобализм — две стороны одной медали, две руки, принадлежащие одному организму, два способа управляемого решения одних и тех же глобальных проблем в одних и тех же глобальных интересах.
И ясно, что управляющая команда обеим рукам подается из единой «головы» — центра, который, разумеется, скрывают за рамками новостного телеэкрана. Более того, доверчивому обывателю не показывают даже рук — они надежно скрыты под надетыми на них куклами, ведущими между собой «беспощадную» борьбу «нанайских мальчиков»: Буш против Гора и Керри, Обама против Хилари Клинтон и Маккейна, Меркель против Шредера, Кэмерон против Брауна, Саркози против Руаяль и т. д.
Во-вторых, отметим, что в 1970–1990-е годы имело место не четкое отделение одних вопросов «устойчивого развития» от других, а соответствующее наращивание общего объема рассматриваемой и контролируемой проблематики. От ресурсов и до «борьбы с бедностью», которая приобрела сквозной, всеобъемлющий характер и стала использоваться в качестве инструмента прикрытия всех глобалистских затей. Новые темы появлялись и укоренялись в формировавшейся Римским клубом глобальной повестке, но и старые из нее никто не изымал. Иначе говоря, экспансия «римской модели» осуществлялась посредством постановки под контроль все новых и новых сфер социальной, экономической и политической жизни.
«Нарастающий» характер глобальной проблематики ярче всего демонстрируется «обязательствами и планами», содержащимися во все той же Копенгагенской декларации Всемирного саммита 1995 года. Другим, не менее «говорящим» документом является второе издание Многолетнего плана работы Комиссии ООН по устойчивому развитию (2003 г.), с которым мы ознакомимся в § 6.6. В отличие от первого издания, перспектива которого ограничивалась пятью годами (1998–2002 гг.), второе замахнулось на определение генерального тренда глобального развития уже на полтора десятилетия вперед, вплоть до 2017 года.