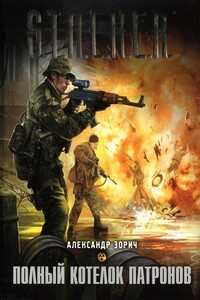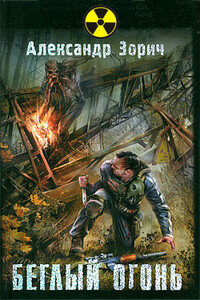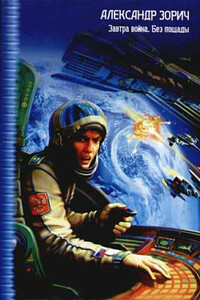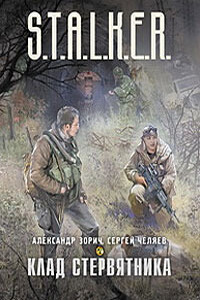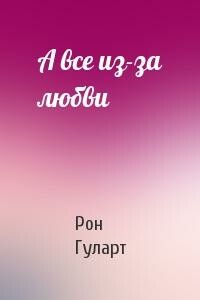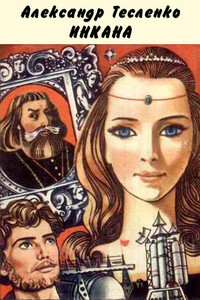Шарик из сиреневого картона мы заметили одновременно. Он лежал посредине пустой скамейки, забытый кем-то или выброшенный. Грани на шарике стали заметны, когда мы подошли ближе, каждый своим путем.
Она остановилась, я склонился над скамейкой. Она протянула к шарику руку в неуклюжей брезентовой рукавице, я оказался проворней.
— Двенадцатигранник, — сказала она тихим голосом.
— Додекаэдр, — согласился я.
Я уже вертел его в пальцах — правда, тогда он был серый и пластмассовый — давным-давно в кабинете алгебры и геометрии. И думал, что все люди похожи на многогранники. Простые и прямодушные — на кубы, более сложные, «с подтекстом» — на додекаэдры, себя же я с юношеской самоуверенностью причислял к икосаэдрам, сплошь состоящим из маленьких хитреньких треугольничков.
С какой стороны ни посмотри, увидишь всего несколько граней, прочие останутся в тени. На них даже можно написать: «эта сторона — для родителей», «эта — для учителей», «эта — для случайных встречных». И только к тем, кто нам по-настоящему дорог, мы стараемся поворачиваться своими лучшими гранями.
С годами число треугольничков поубавилось, граненый брильянт икосаэдра потускнел и выродился до чего-то угловатого и плоского. Сторона «А» для тех, кто пройдет мимо и не заметит, и сторона «Б», для тех, кто заметит… и пройдет. В частности, к парковой «девушке с метлой» я неосознанно старался повернуться левым боком. На правой щеке третий день белела полоска пластыря, вернее сказать, уже серела — в память о неудачной попытке заточить тупое лезвие одноразового бритвенного станка. Заметив такую странность в своем поведении, я улыбнулся.
— Можно? — Маленькая узкая ладошка вынырнула из рукавицы, превосходящей ее размерами раза в три.
— Пожалуйста. — Я положил на нее наглядное пособие по наивным заблуждениям детства.
— Картонный, — заметила она с легким сожалением. — У нас в классе был пластмассовый.
Сиреневый двенадцатигранник дрогнул под порывом ветра и мне пришлось придержать его пальцами, чтобы не улетел.
Девушка с метлой бросила на меня короткий взгляд исподлобья и тут же отвернулась. Я успел заметить лишь красное пятнышко расцветающей простуды — слева над верхней губой. На ее стороне «А».
Две минуты спустя она призналась, что ее зовут Лара. Три минуты спустя я все еще пытался вспомнить собственное имя. Меня так давно о нем не спрашивали, чаще интересуясь регистрацией… А когда вспомнил — не успел назвать.
Знакомый холодок пробежал вверх по позвоночнику, вздыбил волоски на шее, больно клюнул в темечко. Разошелся электрическими волнами по рукам и ногам, нестерпимо засвербел, уткнувшись в кончики пальцев. Я почувствовал приближение сеанса. И даже зубы стиснул от раздражения: до чего же не вовремя!
Впрочем, когда это сеанс наступал вовремя?
Я повернулся спиной к Ларе и успел сделать несколько шагов по дорожке черного и как будто осиротевшего после расчистки асфальта. Начинать передачу в присутствии новой знакомой почему-то не хотелось. Я еще порадовался про себя: начало эфира по непонятной причине задерживалось. Но уйти достаточно далеко мне не удалось.
— Антон! — раздалось за спиной и я, хоть имя было не мое, резко обернулся.
— Когда же ты приедешь? — немного нервным, но пока еще контролируемым голосом спросила Лара, глядя куда угодно, только не на меня. — Два часа давно прошли, эти люди сказали, что дают тебе еще полчаса. Верни им деньги, Антон, это всего лишь деньги. У тебя же есть, ты говорил…
Я уставился на Лару как в первый раз. Вернее, не «как» — просто в первый раз, поскольку обычно избегаю пристально смотреть на людей, надеясь, что и они в свою очередь проявят тактичность и не станут пялиться на меня в какой-нибудь не самый подходящий момент. То есть практически в любой…
И увидел бледное лицо с тонкими дрожащими губами, которые стали бы выразительнее, не пожалей их обладательница хоть капельку помады. И слипшиеся волосы цвета сырого песка, спадающие на лоб десятком мышиных хвостиков. И выглядывающие из-под челки глаза неопределенной расцветки: не зеленые, не серые, не голубые…
Они и должны быть такими — никакими — глаза связного во время сеанса.