Здесь же А. Каждан ставит еще один вопрос: «В чем «признавались» христиане?"
По И. М. Гревсу это место у Тацита переведено «которые не скрывались».
Советский профессор И. М. Гревс объясняет и причину ненависти к христианам со стороны римлян, а также доказывает, что «манеры и стиль» «приведенных эпизодов» являются «литературными приемами и писательским талантом» Тацита, которые он применял в драматических сюжетах.
Вот полное его свидетельство:
«Нерон устрашился бунта и постарался отвести от себя грозные подозрения. Подосланные им агитаторы стали рассказывать, что Рим зажгли христиане. Проникшая в то время в Рим и заметно распространявшаяся чужестранная секта из Иудеи, которая держалась от всех особо, отрицала римских богов, чуралась античной культуры и обычаев и совершала тайно обряды своего культа, вызывала, пока глухую, вражду в массах и презрительное отношение в образованных классах. (Враждебная отчужденность, в которой жили христиане в Риме, давала повод подозревать христиан в злых замыслах, дурных нравах и необычайных преступлениях.) Приспешникам Нерона не трудно было разжечь ненависть против неведомых пришельцев в расстроенных и возбужденных множествах: те обрушились на христиан, а Нерон подстрекнул разбушевавшиеся злые страсти. Разразился погром и Нерон потворствовал рассвирепевшей стихии. Так или иначе, но ему удалось отклонить от себя опасность народного гнева.
У Тацита находим следующий рассказ: «Зловредное суеверие стало плодиться не только в Иудее, где самое зло возникло, но и в городе Риме, куда именно со всех концов земли притекает, и где множится все постыдное. Сначала были схвачены те из них, которые не скрывались. По их указаниям обнаружено было очень большое число, и они были уличены не в злодейском поджигательстве, а в «ненависти к человеческому роду». Над ними произносились смертные приговоры, но, и умирая, они подвергались издевательствам, будто бы для забавы толпы. Их одевали в звериные шкуры и отдавали на растерзание псам. Их вешали на крестах, иногда зажигали как факелы, чтобы, когда день темнел, они освещали ночь. Нерон представил для такого зрелища свои сады (на Ватиканском холме), а сам одновременно устроил игры в цирке, лично вмешивался в толпу и в одежде возницы правил конями». Тацит прилагает к этому жуткому описанию такой вывод: «Хотя христиане и были преступны и заслуживали строгого наказания (Тацит не поясняет, каковы были их преступления, будто бы достойные «высших кар»), тем не менее они вызывали сострадание за мучения, которым их предавали, так как они гибли не для общей пользы, а в удовлетворение свирепости одного человека и в угоду ему» (Анналы, гл. 15, § 44).
Приведенные эпизоды из «Анналов» дают нам выразительный образец манер и стиля Тацита, когда он своим писательским талантом и литературными приемами обрабатывает драматические сюжеты: сжатость и сдержанность, при ясно ощущаемом эмоциональном участии самого автора в том, о чем он повествует, отсутствие напыщенной риторики, выразительная искренность и благородный тон высказываемых замечаний. Такие особенности проявляются у него при изображении событий войны, ее успехов и катастроф, дворцовых переворотов, народных волнений и, как здесь, актов тирании цезарей и насилий толпы»
И, в заключение, еще раз приведем слова Арчибалда Робертсона: «Факт заключается в том, что ни один из античных авторов, высказывания которых нам известны не сомневался в историческом существовании ИИСУСА».
«Все, дошедшие до нас свидетельства евреев и язычников, равно, как и доказательства, вытекающие из самого текста синоптических Евангелий, говорят против теории мифа…"
«В свете данных материалов тезис мифологической школы о «молчании века» — молчании античных писателей первого века христианства о Христе — представляется мало обоснованным. В данном случае скудость и немногочисленность сведений отражают подлинную историческую перспективу: истоки христианства и исторические персонажи, стоящие во главе его, оказываются для современного им античного мира явлением ничтожным и в общем почти незамеченным. В тех же случаях, когда античный автор, будь то Плиний, Тацит или Светоний, в какой-нибудь связи уделяет им несколько строк, он неизменно аттестует это движение как «безмерно уродливое суеверие».
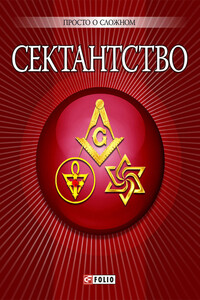
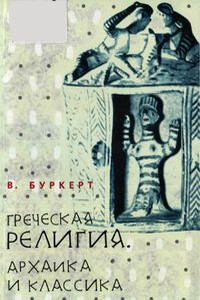
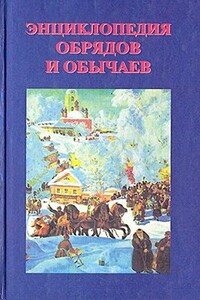
![Государство, религия, церковь в России и за рубежом №3 [35], 2017](/uploads/books/images/95/95f6ffb56eb7d32230aa92dfe99a268d2b7c17b6.jpg)