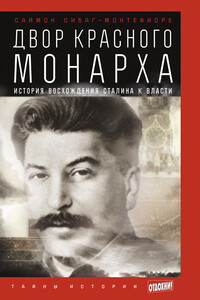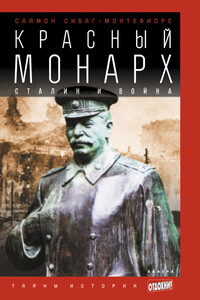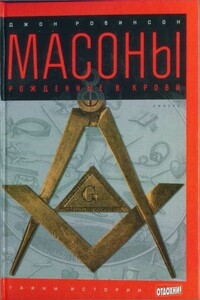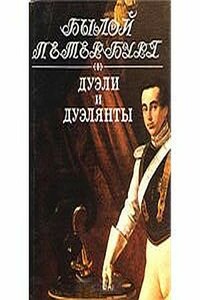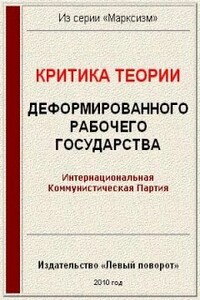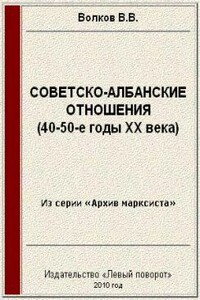Меж рабством и свободой: причины исторической катастрофы - страница 154
Роль исторических прецедентов в политике — вообще тема для особого и важного исследования. И в деятельности Милюкова, и в деятельности лидеров 1730 года опора на историю выдвинулась на первый план не только потому, что это были исторически эрудированные люди. Не имея все же достаточно органичной и надежной идеологической почвы под ногами в момент действия, они использовали исторические прецеденты как сваи, которые Петр вбивал в ингерманландские болота, чтобы поставить на укрепленной почве регулярный город.
Быть может, в 1730 году впервые в России история была использована в политической борьбе так полно и столь прагматично. Столкновение Голицына и Татищева как политических мыслителей было столкновением двух интерпретаций одной и той же истории с упором на одни и те же периоды. То, что мы знаем о князе Дмитрии Михайловиче, дает нам все основания утверждать, что, например, царствование и деяния Ивана Грозного он оценивал с позиции Курбского; Татищев же, знавший историю лучше, профессиональнее князя Дмитрия Михайловича, со смелостью отчаяния искажал историческую реальность, трактуя деятельность царя-убийцы как благотворную для государства. Он не мог не знать, что политика Грозного в конечном счете спровоцировала катастрофу Смутного времени. Его апелляция к подвигам Ивана IV как устроителя государства была вынужденным политическим ходом.
Быть может, именно эта установка — опора на историю как на кладезь прецедентов, именно историческая ориентированность противников оказала пагубное влияние на результат их усилий. Тут трудно не согласиться с Гегелем, утверждавшим:
Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния… блеклое воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизнеспособностью и свободой настоящего[147].
И Милюкова, и Голицына, и — в меньшей степени — Татищева губило предпочтение, которое они отдавали исторический стратегии перед политической практикой. Но, возможно, дело было серьезнее.
Глубокий мыслитель, исследовавший с философской точки зрения социально-психологические катастрофы XX века, Хосе Ортега-и-Гассет утверждал: "Человек античности живет прошлым. Прежде чем что-то совершить, он отступает назад, как ящерица, когда она готовится к нападению. Он ищет в прошлом образец для подражания и, найдя его, спокойно бросается в пучину настоящего, зная, что находится под охраной славного прошлого, смотря на жизнь сквозь его деформирующее стекло"[148]. Это наблюдение многое объясняет.
Здесь нет смысла анализировать влияние античных образцов на мышление русского культурного человека первой трети XVIII века — эпохи, в некотором роде являющейся аналогом европейского переходного периода от Средневековья к Возрождению, то есть грубо модернизированной Античности — с упрощенным и искаженным повторением черт античного мировосприятия. Милюков в эту схему не вмещается. Очевидно, следует говорить об определенном типе политического сознания, которое берет свое начало в Античности, то есть политического сознания, укорененного в глубинах европейской культуры.
Вот эта укорененность в культуре и губила как политических практиков Голицына и Милюкова, в то время как Остерман и Ленин были от ее вериг независимы и сохраняли полную свободу маневра — как собственно политического, так и нравственного. Остерман был равнодушен к русскому прошлому — он был человеком петровского настоящего и исходил из его правил и интересов, пытаясь распространить это настоящее на обозримое будущее России. Ленин же, хорошо знавший русскую историю, но не воспринимавший ее как абсолютную ценность, не был никак связан этим знанием. История, как и все остальное на этом свете, была для него материалом, орудием, средством, но не опорой и не образцом.