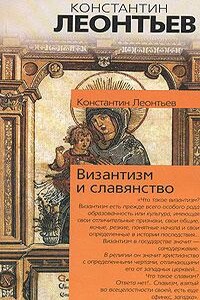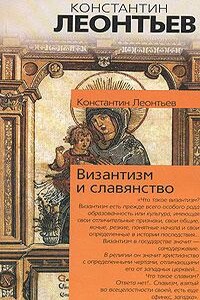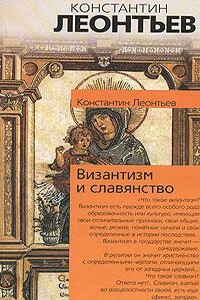Любая развивающаяся система имеет цель — некое предсказуемое состояние, к
которому она стремится, подчиняясь общим законам развития. Достижение цели — например, возобновление вида — гарантируется генетическим механизмом, точность
работы которого позволяет безошибочно предсказать, что из утиного яйца вылупится
утенок, а не лебедь (впрочем, было время, когда философы распространяли свое
недоверие к целенаправленности в природе на всю генетику, причисляя ее чуть ли
не к оккультным наукам). Разумеется, природная система не размышляет о своих
целях и неспособна произвольно менять их. Но не то же ли можно сказать и о
человечестве?
Система задает цель своим компонентам, и пока человек был
частью природной экологической системы, ему незачем было заботиться о смысле
существования. Беспокойство, ощущение пустоты жизни и необходимость определения
ее смысла пришли с отделением от природы и начавшимся процессом формирования
новых систем, все более подчинявших себе физическое существование человека. В
связи с этим впервые появилась потребность разобраться не только в окружающем,
но и внутри себя, т. е. духовная жизнь. Для поддержания этой последней
формировалась метаэкологическая система, развивающаяся автономно, хотя и
уподобляемая внешней системе мироздания. Метафизика возникла на основе такого
уподобления как символическое воплощение внутреннего мира.
В этот ранний период был заложен фундамент метаэкологической
системы. Краеугольным камнем в нем был образ Солнца, космического очага, как
субстанциональной основы единства мироздания, который дополнялся и частично
замещался Логосом, родственной интеллектуальной субстанцией. Свойства этой
ионийской субстанции, её непрерывность и дискретность, порождали объединяющие и
конфликтующие начала, представления о единице и бесконечно малом, преломленные в
боге и человеке, о тонких атомах души и плотных атомах тела. Мироздание
приобретало Структуру, основанную на гармонии чисел или подобии атомов. В этой
системе состоялось разделение внешнего мира вещей и внутреннего мира сущностей.
На долю нового времени выпала рационализация этих идей, перевод первичных
метафор, называемых мифами, на упрощенный язык вторичных метафор, называемых
философией.
В предыдущей и последующих главах я принимаю традиционную
интерпретацию мифических сюжетов или предлагаю собственную, если она кажется мне
более убедительной. Ключ к символике мифов дает сравнительная мифология,
обнаруживающая повсеместный параллелизм мифотворческих процессов. Мифы,
родившиеся в тропических джунглях, на просторах тундры, говорят, на разных
языках, об одном и том же — то внятно, то туманно, и в этом смысле дополняют
друг друга, помогают заполнить пробелы и расчистить позднейшие наслоения.
Мифотворческий параллелизм свидетельствует о единстве первичных духовных
потребностей человечества, отраженных в древнейших метаэкологических системах.
Если рассматривать миф как изложение каких-то, пусть даже
отчасти или целиком вымышленных, событий, то нетрудно обнаружить в нем
отклонения от элементарной логики. Словно мифотворчество руководствуется
какой-то своей, особой логикой. Однако логическая структура мифа проявляется не
в житейском, а в метафорическом значении описываемых событий. В процессе
духовной эволюции метафоры претерпевали определенные изменения (например,
олицетворение родовой сущности утрачивало зооморфные черты и приобретало
антропоморфные; путь души пролегал не по звездному небу, а по каменистой земле).
Соответственно вносились поправки в их событийное оформление (супругом Европы
становился уже не бык, а Зевс, принявший облик быка; созвездие Девы заслоняла
девственная жена плотника), постепенно утратившее всякое правдоподобие. В этом,
по-видимому, и заключается секрет мифопоэтической логики, которая, как
утверждают многие — и особенно настоятельно Я.Э. Голосовкер в «Логике мифа» — не
имеет ничего общего с формальной.