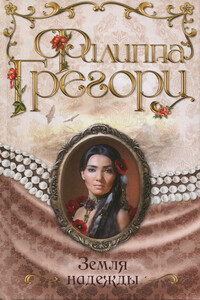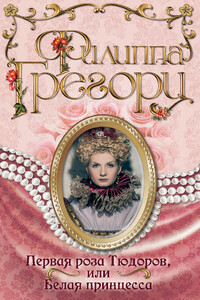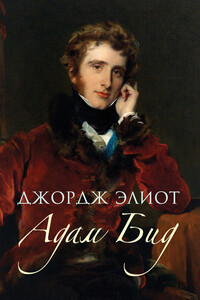Я думала, что сейчас должно быть где-то между семью и восемью вечера, но точнее сказать не могла. Захотела бы узнать точно – на пути попадались деревенские церкви с колокольней и часами, они встречались даже в этом пустынном краю.
Есть мне не хотелось. Я была измучена усталостью, но не хотела спать. Мне было неважно: только началась эта первая ночь в одиночестве, прошла наполовину или вовсе никогда не кончится. Я скрючилась в седле и позволила Морю самому осторожно спускаться с холма в тени деревьев, отпустив поводья.
Мы добрались до деревни у подножия. Славная была деревушка. Вдоль широкой дороги бежала речка, и от нескольких домиков через нее были перекинуты мосты, чтобы владельцы могли посуху перейти на дорогу, даже если речка разольется. В нескольких окнах горели свечи, указывая путь усталым мужчинам, допоздна работавшим в полях. Я праздно подумала: а чем в это время года могут заниматься фермеры? Может быть, пашут? Или сеют? Я не знала, мне это никогда не было нужно. Тогда я стала раздумывать, пока Море ступал, как призрак, по вечерней деревне, как мало я знаю об обычной жизни; о жизни людей, которые не наряжаются и не танцуют на спинах лошадей. Подумала, что для Дэнди было бы куда лучше, если бы я объезжала лошадей для фермеров и господ, а не позволила приковать нас к колесу ярмарочного сезона.
А теперь это колесо нас переехало.
Дорога вела вверх по склону холма, прочь из деревни, и Море пошел резвее – я позволила ему идти в гору рысью. Будь сейчас светло, я, наверное, увидела бы слева огромную равнину. Я чуяла ее зеленую свежесть, веяло полевыми цветами, прятавшими личики на ночь. Справа от нас высился холм.
«Это Южная Гряда», – подумала я. И прикинула, где я нахожусь.
Я мысленно взглянула на карту. Ехала я от Селси, обогнув Чичестер, а эта дорога наверняка вела в Лондон. Тогда было понятно, почему она такая накатанная и широкая – на ней могли разминуться две кареты. Тут я вспомнила, что мне нужно высматривать домики дорожных смотрителей. Я не собиралась тратить деньги, оплачивая проезд по дороге, если небольшой крюк по бездорожью мог сберечь мне пенни. Еще я поглядывала, нет ли повозок. Я не хотела ни с кем говорить, я не хотела даже, чтобы кто-то смотрел мне в лицо. Мной владела нелепая убежденность в том, что мое лицо – такое остановившееся и каменное, что любой, взглянувший мне в глаза, непременно заплачет. Что он сразу увидит мертвеца, глядящего сквозь живые глазницы. Что за моими глазами и губами, за всем моим лицом, просто никого нет.
Я попыталась улыбнуться в темноту и обнаружила, что губы изгибаются, а лицо приходит в движение, и ледяная тяжесть внутри меня этому не мешает, но и сама не меняется. Я даже попробовала рассмеяться, одна в темноте, на окраине деревни. Смех прозвучал жутковато, Море прижал уши и ускорил шаг.
Я придержала его. Я так устала, что не могла вынести его подпрыгивающей рысцы, а галопом, казалось, я больше не поеду никогда. Я едва помнила девушку, вольтижировавшую на шедшей галопом лошади, танцевавшую, прыгавшую в обруч и через веревочку. Теперь она казалась мне полным надежд ребенком, и я гадала, за что с ней так жестоко обошлись.
С ней и ее бедной сестричкой…
Я прогнала эти мысли. Странные они были. Я говорила и думала так, словно я старуха. Усталая и готовая к смерти.
Девочку, которая нынче утром резвилась в море, отделяла от меня целая жизнь. Я подумала, что я больше похожа на ту женщину, которая смотрела на уезжающий фургон сквозь страшную, как во сне, грозу, зная, что больше она никогда не увидит свое дитя. Женщину, которая кричала вслед фургону: «Ее зовут Сара…»
Теперь я чувствовала то же, что и та женщина. То же, что чувствует любая женщина, потерявшая того, кого любила, кто спасал ее жизнь своим существованием. Старая. С разбитым сердцем. Готовая умереть.
Я вздохнула, и Море, сочтя это командой, снова перешел на рысь, приведшую нас на вершину холма, а потом – в деревню, лежавшую у его подножия среди источников.
Было поздно, в деревне уже погасили огни. Море шел тихо, нас никто не заметил. Только ребенок, выглянувший из верхнего окна на луну, увидел меня. Он поднял руку в приветствии, и его глаза встретились с моими. Он улыбнулся открыто и дружелюбно. Я в ответ не улыбнулась и не помахала. Я его едва заметила и ничего не почувствовала, когда углы его рта опустились от огорчения, оттого, что незнакомец на лошади не обратил на него внимания. Мне было все равно. Его до завтрашнего вечера ждет еще множество огорчений. К тому же я не хотела быть доброй с маленькими детьми. Ни у кого не нашлось ласкового слова для меня, когда мне было столько, сколько ему. Да и потом тоже. Ко мне была добра только она. По-своему, легкомысленно, она меня любила. Но в этом теперь не было утешения.