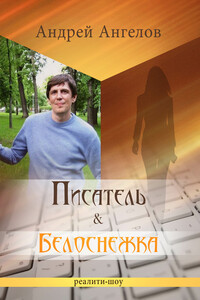Меня поселили в гостинице «Астория». Этот некогда лучший петербургский отель, в котором в былые времена, приезжая из Мурома, неизменно останавливался отец, снаружи выглядел всё таким же красавцем, но от былой роскоши внутри не осталось и следа. Я, впрочем, получил вполне приличный трёхкомнатный номер-люкс с ванной, куда исправно подавалась горячая вода – как вскоре стало понятно, большая редкость по тем временам. Стены комнат украшали неплохие картины, а в буфете стояла дорогая фарфоровая посуда. Позже мне сказали, что это был один из номеров, отведённых правительством для высокопоставленных иностранных гостей.
Поскольку время было раннее, а мой сопровождающий куда-то отлучился, сказав, что заедет за мной позднее, я решил позавтракать в ресторане, где не раз бывал с отцом. С виду там всё было, как прежде – то же изысканное меню, те же форменные сюртучки на официантах. Поскольку расплачиваться надлежало талонами, я решил не экономить и заказал рябчика. Оказалось, что за талоны рябчика не подают, и мне принесли два яйца всмятку и стакан жидкого чаю.
Вскоре появился мой соглядатай в сопровождении двух инженеров и вручил мне напечатанную на машинке программу визита. Программа была очень насыщенной: каждый день по лекции, плюс посещение лабораторий, плюс несколько официальных приёмов. Только тут выяснилось, что визит полностью организован Наркоматом связи, то есть правительством, а не университетами, как говорилось в присланном мне в Америку приглашении. После недолгих препирательств мне удалось выторговать несколько свободных часов для прогулок по городу и посещения сестёр.
Я согласился читать лекции по-русски, что оказалось довольно сложно. Главным образом потому, что новые области электроники и телевидения породили новые термины, которых я по-русски не знал. Приходилось пользоваться английскими в русской транслитерации. Но меня понимали. Ещё до революции русский язык пополнился множеством технических терминов, пришедших к нам из других языков. Поскольку технический прогресс всегда шёл с Запада, я не видел большой беды в заимствованиях.
Все мои лекции проходили при полных залах. Слушали жадно, ловя каждое слово, подолгу не отпускали, засыпая вопросами. Я был поражён вышколенностью аудитории – никакой «студенческой вольницы» начала века. Все как один вставали при появлении лектора и садились лишь по команде директора института, выступавшего обычно со вступительным словом.
Те несколько лабораторий, которые я посетил, не произвели впечатления: за время моей эмиграции там мало что изменилось. Здания обветшавшие, оборудование устаревшее – в США даже в небольших университетах такого уже не встретишь. Однако эксперименты велись интересные, и многие результаты оказались для меня неожиданными.
Конечно, я попытался найти профессора Розинга, но большинство людей, у которых я наводил справки, ничего о нём не знали. Наконец, мне удалось выяснить, что Борис Львович был арестован и сослан в Архангельскую область. Он умер незадолго до моего приезда в СССР[104].
На одну из моих лекций в Политехническом институте пришли профессора Иоффе[105] и Капица[106]. Обоих я хорошо знал: Абрам Фёдорович читал спецкурс по заряду электрона, который я посещал в бытность свою студентом Технологического института. С Петром Леонидовичем мы были знакомы давно и последний раз виделись в его лаборатории в Кембридже. Я никак не ожидал застать его в России и поинтересовался, когда он возвращается в Англию, куда я планировал заехать на обратном пути. Капица ответил уклончиво, что меня удивило. Позднее я выяснил, что ему не разрешили вернуться в Кембридж, и он вынужденно остался в СССР, получив пост директора Института физических проблем в Москве. К счастью, к тому времени я уже благополучно вернулся в США и подобная участь мне не грозила.
Заглянул я и в свою alma mater – Технологический институт, – но не увидел ни одного знакомого лица. Атмосфера там царила совсем иная.
Несколько раз меня водили в театр на оперу и балет. Постановки были сделаны с большим вкусом, и нынешние исполнители ничуть не уступали тем, что блистали во времена моей молодости.