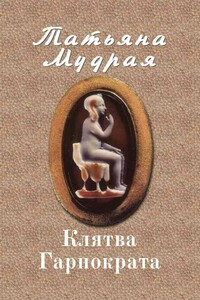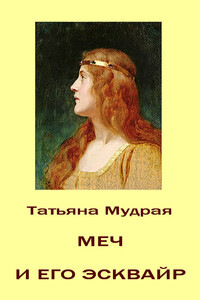Иногда мне кажется, что Фрейя приняла на себя ту бездну поношений, которая была предназначена моей родной дочери. Добровольная или невольная жертва.
Я погрязаю в топкой тине своего бездействия.
Почему я не смею ничего предпринять?
Эрмин говорит:
— Почему бы ей от младенца ещё тогда было не избавиться — да и сейчас, поди, не поздно. Говорили же тебе, что тогда твои противники не станут подогревать страсти.
Кто говорил? Мои старые женщины? Да откуда он знает — в то время Эрми не был еще моим наперсником. И сейчас, кстати, не так чтобы очень.
— Ты же имеешь полное королевское право помиловать.
Это снова он. Но откуда я знаю, что тогда на самого меня не навесят incestus, как называет это Дарвильи, или растление малолетней? Точнее, я твердо знаю, что попытаются. И тогда я подвергнусь в Готии их проклятому obstructio путём их трижды проклятого liberum veto, а во Франзонии перестану быть тем, кто может хоть как-то на что-то повлиять. Это по меньшей мере.
— И отчего тебе не похитить ее из Шинуаза и не перекинуть через границу в тот Рутен, откуда она явилась, на наше несчастье?
Взять из-под охраны и подвергнуть иной смерти, чем та, что ей предназначена. Возможно, куда худшей.
Нет.
Я трус.
Эрмин храбр беззаветно. Как поют жонглеры на перекрестках: «Лучше гибель, но со славой, чем позорное житьё». Ну разумеется. Сдохнуть нам — раз плюнуть. Вот, небось, Зигрид порадуется…
Ох, святая вошь, а это откуда выползло?
Мессер Барбе говорит мне:
— Бойтесь первых движений души — они не только самые благородные и нерасчётливые: они убийственно глупы и до идиотизма опасны. Откуда вы все взяли, что будет слава, а не еще горчайший позор? Образуется воронка, водоворот, куда затянет всех поочередно: Фрейю, Фрейра, Ниала, вас… и то дитя, что вот-вот должно появиться в неприступной цитадели Шинуаз.
Как вы не поймете: и ваша дочь — приманка для вас, и вы сами — приманка для неких сил. А бесплатный сыр в мышеловке, равно как и дорогостоящий, подвержен одинаковому риску быть съеденным.
Он явно не договаривает.
А Эрмин, забив на мне крест, как мы говорим, бодро скачет по полям и лугам. Одна из обязанностей конюшего — сопровождать королеву в ее верховых поездках. Сам в щегольской тунике и алой мантии с капюшоном, моя жена — в особенном платье для верховой езды, как считается, подражающем наряду дев-воительниц. С разрезами до пояса и оборкой широких кружевных панталон внизу.
И, право, я почти рад, что Зигрид удается хоть как-то утолить свои печали.
Размышление четвертое
Сколько-нисколько плыли зачарованные путешественники, которых обременяли пока ни к чему особо не применимые дары, но вот снова показался из тумана большой гористый остров. Он был разделен посередине высоченной стеной, что состояла из самих гор, причем перевалы были заложены камнем. С одной стороны острова были тучные травяные пастбища, с другой росли только мох, вереск и пустынная колючка. На одном краю паслись дородные, как бурдюк, белые овцы со спутанным руном, а на другом — поджарые черные, все в крутых завитках. У белых морды были унылые и постные, у черных — ехидные и вроде как вполне довольные жизнью. По верху стены ходил великан и то и дело нагибался, подхватывал овцу в горсть и перебрасывал на другую сторону, причем овца сразу же меняла если не стать и дородность, то уж наверняка цвет.
Страшно стало от всего этого путникам, но вдруг увидели они, что посреди камней проделаны многие дыры и лазы, и овцы постоянно пролезают через них в ту или другую сторону сами, приобретая иной, чем прежде, цвет куда быстрее, чем великан мог это заметить.
— Вот неслухи, — пожаловался великан голосом, подобным грому. — Никак не хотят определяться. Упрямые бараны, а не овцы. Так и вожусь с ними, пытаясь отделить чистых от нечистых.
Ничего не сказали в ответ ему люди Брана, потому что дано им было понять: овцы — те же люди, и не найдешь среди них ни совсем добрых, ни совсем злых. А если и отыщешь — сами они воспротивятся такому разделению…
С тем быстро отчалили товарищи Брана и сам он от Острова Овец, чтобы не сердить гиганта — потому что мог он прочесть их ответ в молчании и улыбках.