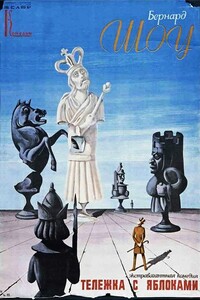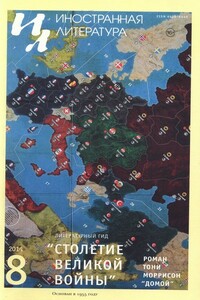Пусть-ка он проследит промышленные источники дохода этаких симпатичных старушек — он непременно обнаружит на другом конце профессию миссис Уоррен, и несъедобные мясные консервы, и прочее в том же духе. Его собственное жалованье имеет то же происхождение. Либо ему придется разделить всеобщую вину, либо подыскать себе другую планету. Он должен спасти честь мира, если он желает сберечь свою. То же самое обнаруживают все церкви, и то же, в пьесе, обнаружили Армия спасения и Барбара. Открытие Барбары, что она соучастница отца, что Армия спасения — соучастница винокура и фабриканта оружия, что обойтись без этого нельзя, как нельзя обойтись без воздуха; открытие, что спастись через личную праведность невозможно, а путь к спасению лежит только через избавление всей нации от порочной, ленивой, основанной на конкуренции анархии, — это открытие сделали все, кроме фарисеев и, по всей видимости, профессиональных театралов. Последние все так же носят те самые рубашки, о которых писал Томас Худ, и не доплачивают своим прачкам, и у них при этом не возникает ни малейшего сомнения относительно возвышенности своей души, чистоты своей индивидуальной атмосферы и собственного права отмести, как нечто чуждое, грубую развращенность мансарды и трущоб. Ничего худого они этим не хотят сказать, просто им очень хочется быть по-своему, по- чистоплюйски, джентльменами. Урок, полученный Барбарой, им ничего не дает, потому что, в отличие от нее, получили они его не в результате участия в общей жизни страны.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БАРБАРЫ В СТРОЙ
Возвращение Барбары в строй может еще составить тему для исторического драматурга будущего. Вернуться в Армию Спасения, зная, что даже члены Армии пока не спаслись, что нищета не благодать, а мерзейший из грехов, что, выбирая в качестве эмблемы для Армии спасения Кровь и Огонь, а не Крест, генерал Бут, может быть, сам того не ведая, действовал по наитию свыше, — что-то да значит. И то, что все это знает дочь Эндру Андершафта, сулит перспективы получше, чем раздача хлеба и патоки за счет Боджера.
Как показателен этот инстинктивный выбор военного типа организации, эта замена органа барабаном. Не говорит ли это о прозрении членов Армии спасения, догадывающихся, что нужно в полном смысле слова сражаться с Дьяволом, а не просто обращать против него молитвы. Правда, пока они еще не совсем выяснили его точный адрес. Но уж когда выяснят, то могут сильно расшатать чувство безопасности, выработавшееся у Дьявола на основе опыта: он привык, что бранные слова вреда не причиняют, даже если они произносятся красноречивыми эссеистами и лекторами или единодушно звучат на публичных митингах, где горячо обсуждаются предложения выдающихся реформаторов. Принято считать, что французская революция — дело рук Вольтера, Руссо и энциклопедистов. Мне она представляется делом рук людей, которые пришли к выводу, что добродетельное негодование, язвительная критика, убедительная аргументация и писание назидательных брошюр, даже когда все это исходит от серьезнейших и остроумнейших литературных гениев, так же бесполезны, как и молитвы. Ибо дела шли все хуже да хуже, хотя «Общественный договор» и памфлеты Вольтера находились в зените славы. В конце концов, как нам известно, вполне почтенные горожане и ревностные филантропы попустительствовали сентябрьским убийствам, так как на опыте успели убедиться, что, если они удовлетворятся призывами к гуманности и патриотизму, аристократы, хоть и прочтут их призывы с величайшим удовольствием, высоко оценят, расхвалят авторов и выразят восторг, все равно не прекратят сговоров с иностранными монархистами, имея целью задушить революцию и восстановить прежнюю систему со всеми сопутствующими явлениями варварской мести и безжалостного подавления народных свобод.
Тот же урок в девятнадцатом веке был повторен в Англии. Девятнадцатый век повидал утилитаристов, христианских социалистов, фабианцев (сохранившихся до наших дней); увидел Бентама, Милля, Диккенса, Раскина, Карлейля, Батлера, Генри Джорджа и Морриса. А в результате всех их усилий мы имеем Чикаго, описанный мистером Эптоном Синклером, и Лондон, где люди, которые платят деньги за возможность развлечься на моем спектакле созерцанием Питера Шерли, выгнанного на улицу умирать с голоду в сорок лет, потому что на его место можно взять за те же деньги более молодых рабов — люди эти не принимают и вовсе не собираются принимать никаких мер для организации общества таким образом, чтобы отменить этот каждодневный позор. Я, проповедовавший и писавший памфлеты, как всякий энциклопедист, спешу признаться, что мои методы не дают никакого результата и не дали бы, будь я даже Вольтер, Руссо, Бентам, Маркс, Милль, Диккенс, Карлейль, Раскин, Батлер и Моррис вместе взятые, даже если бы прикинуть еще Еврипида, Мора, Монтеня, Мольера, Бомарше, Свифта, Гете, Ибсена, Толстого, Иисуса и пророков (а в каком-то смысле все они и есть я, поскольку я стою на их плечах). Имея перед собой задачу сделать из трусов героев, мы, апостолы бумаги и искусные чародеи, преуспели только в том, что придали трусам все чувства героев. Но терпят-то они любую мерзость, приемлют любой грабеж, покоряются любому давлению. Христианство, возведя покорность в достоинство, лишь отметило в бездне ту глубину, на которой теряется само понятие стыда. Христианин подобен диккенсовскому врачу в долговой тюрьме, расписывающему новичку ее невыразимый покой и надежность: ни тебе кредиторов, ни деспотичных сборщиков налогов, ни арендной платы; ни тебе назойливых надежд, ни обременительных обязанностей — ничего, кроме отдохновения и надежной уверенности, что ниже пасть некуда.