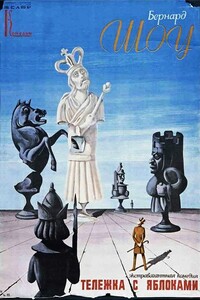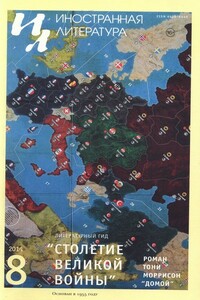С романом Ливера дело обстоит совсем по-другому. Там нет сострадания к Потсу, Поте так и не завоевывает нашей симпатии, как завоевывают ее Дон Кихот и Пиквик, у него нет даже безрассудной удали Таппертита. Но смеяться над По- щеом мы не рискуем, ибо каким-то образом узнаем в нем себя. Быть может, у нас, хотя бы у некоторых из нас, хватает стойкости, физической силы, везения, такта, или умения, или ловкости, или познаний для того, чтобы лучше, чем он, выпутываться из обстоятельств: провести тех, кто видит его насквозь; очаровать Катинку, которая так безжалостно отвергает Потса в конце романа. Но при всем при том мы знаем, что Потc — важнейшая часть нас самих и мира и что социальной проблемой является не проблема книжных героев старого образца, а проблема Потсов и того, как сделать из них людей. Возвращаясь к высказанному выше, мы испытываем такое чувство (и его никогда не рождают Альнашар, Пистоль, Пароль и Таппертит), словно Поте есть элемент подлинно научной естественной истории, а не просто развлекательной. Автор не бросает камня в существо другого, низшего разряда, нет, он пишет исповедь, и в результате камень основательно бьет каждого из нас по сознанию и больно задевает наше самоуважение. Поэтому-то книга Ливера и не пришлась читателям «Домашнего чтения». Именно эта ссадина на чувстве достоинства и заставляет критиков поднимать крик про ибсенизм. Заверяю их, что ощущение это перешло ко мне от Ливера, а к нему, возможно, от Бейля или, по крайней мере, возникло из атмосферы книг Стендаля. Гипотезу об абсолютной оригинальности Ливера я исключаю, ибо человек так же не может быть абсолютно оригинальным, как не может дерево вырасти из воздуха.
Еще одно заблуждение относительно моих литературных предков возникает всякий раз, как я нарушу романтическую условность, основывающуюся на том, что все женщины ангелы, если они не дьяволы; что они красивее мужчин; что их роль в период ухаживания чисто пассивная и что женская фигура — самое совершенное произведение природы. Шопенгауэр написал желчное эссе, и поскольку его нельзя назвать ни вежливым, ни глубоким, оно, очевидно, задумано для того, чтобы нанести сногсшибательный удар этой галиматье. Широко цитировалась фраза, провозглашающая фетишизируемую форму уродливой. Английские критики фразу эту прочитали, и я утверждаю со всевозможной мягкостью, какая согласуется с этим утверждением, что глубже они и не копнули. Во всяком случае, стоит какому-нибудь английскому драматургу изобразить молодую, достигшую брачного возраста женщину кем угодно, только не романтической героиней — и его ничтоже сумняшеся обзывают эпигоном Шопенгауэра. Мой случай особенно трудный, потому что, когда я заклинаю критиков, одержимых манией всюду усматривать влияние Шопенгауэра, помнить, что драматурги, как и скульпторы, берут своих персонажей из жизни, а не из философских сочинений, критики со страстью возражают, что я не драматург и действующие льща в моих пьесах неживые. Пусть так, но я все равно имею право спросить их и спрашиваю: почему в таком случае, если уж им непременно нужно приписывать честь создания моих пьес какому-нибудь философу, то почему не приписать английскому? Задолго до того, как я прочел хоть одно слово из Шопенгауэра и даже не ведал, философ он или химик, возрождение социалистических идей в 80-е годы столкнуло меня в литературном и личном плане с Эрнестом Белфортом Бэксом, английским социалистом и автором философских сочинений, чья трактовка современного феминизма могла бы вызвать романтический протест у самого Шопенгауэра или даже у Стриндберга. Честно говоря, шопенгауэровские нападки па женщин, попавшие в поле моего зрения позднее, показались мне просто слабыми, настолько Бэкс приучил меня к мужской (гомоистской) позиции и заставил увидеть, до какой степени общественное мнение, а вследствие того суд и законодательство развращены феминистскими настроениями.
В своих сочинениях Белфорт Бэкс не ограничивался женским вопросом. Он еще и жестоко бичевал современную мораль. Другие авторы добивались сочувствия к сенсационным преступникам, выявляя так называемое «доброе начало в мире зла», но Бэкс представляет на суд читателей совершенно не сенсационное, а вполне даже захудалое нарушение нашего торгового права и морали, и не просто защищает его с самым обескураживающим простосердечием, но и всерьез доказывает, что всякий здравомыслящий человек просто обязан совершать эти нарушения и помешать ему может разве что боязнь судебного преследования. Социалисты, люди по большей части до отвращения нравственные, были, естественно, шокированы. Но это их, по крайней мере, спасло от иллюзии, будто один только Ницше и бросал вызов нашей торгашеской христианской морали. Впервые имя Ницше я услыхал от немецкого математика мисс Борхардт, которая, прочтя мою «Квинтэссенцию ибсенизма», сказала мне, что сразу видно, кого я читал — Ницше, и именно «По ту сторону добра и зла». Заверяю, что до той поры я в руках его не держал, а если бы и держал, то не мог бы им насладиться в полной мере по недостаточному знанию немецкого.