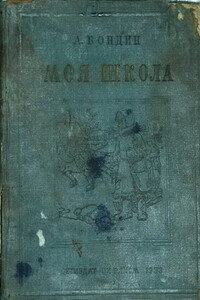Возле него все двигалось. Гром аплодисментов смешивался с торжественными звуками музыки.
Коренистов вскакивал, хлопал в ладоши. Хотелось крикнуть «ура» во весь голос, но какое-то чувство стесняло его, удерживало.
Скоро Коренистов развеселился, осмелел и почувствовал себя, как дома. Возле него хлопотали Стеша и Александр. Они подкладывали ему на тарелку кушанья, наливали рюмки.
Вдруг кто-то близко крикнул:
— За здоровье нашего лучшего из лучших машинистов Саши Игнатьева!
Коренистов поднял рюмку с вином, а в это время неподалеку от него Игнатьев взлетел над головами людей вверх. В стороне метали Стахова и слесаря Пологова.
После чая в зале раздвинули столы. Матвей, затаив дыхание, смотрел, как Игнатьев танцевал со Стешей. Он ткнул под бок Марию Петровну.
— Мать, посмотри-ка, а? Степушка-то у нас!.. А Саша-то, как литой. По-моему, они здесь лучше всех.
— Мне, отец, у нее больно платье глянется.
Вышли плясуны. Матвей, смотря на них, выдвинулся в круг. Возле него стояла молодая женщина.
— А ведь здорово отхватывают, а? — обратился он к ней.
— Ну, а вы что же дремлете?
— Да чешутся ноги-то! — И Матвей, уперев руки в бока, плавно прошелся по кругу. Вокруг захлопали в ладоши. Матвей, положив одну руку на затылок и прищелкивая другой, отбил замысловатую дробь. Неожиданно в круг выскочил Стахов, присутулился, скрестив руки на груди, и, притопывая, прошелся возле Коренистова, говоря на ходу:
— Ну-ка, ну, Матвей Ипатович... Тряхни стариной-то!
— И так трясусь, Павел Митрич,— и пустился вприсядку.
Ему самому не верилось, что он еще так легко пляшет. Ему казалось, что он помолодел. И весь груз, положенный годами жизни, спал с него. Возле него, помахивая красным платком, кружилась молодая смуглянка.
Наконец, Коренистов, уставший, замешался в густую толпу. Его провожали аплодисментами, а он шутливо говорил:
— А будь вы, греховодные, теперь опять неделю поясницей маяться.
В середине зимы Коренистов справлял новоселье. Вместо одноглазой будки вырос просторный домик с большими веселыми окнами. От электроосветительной линии к нему протянулись провода.
Коренистов поджидал Стаховых и Игнатьевых. Просторная комната была залита ярким светом электрической лампы.
В углу на полу, не обращая внимания на дедушку, возился Вова. Он из кубиков возводил какое-то замысловатое здание.
На душе Коренистова было светло и радостно. Радостно было еще и потому, что старшая дочь Клавдия жила у него. Она ушла от мужа.
Прислушиваясь к возне на кухне, где стряпали Мария Петровна и Клавдия, он подошел к зеркалу и осмотрел себя.
Костюм его все тот же, обычный, в котором он встречал праздники: длинный, чуть не до колен, суконный двубортный пиджак, под которым горит красная вышитая рубаха, опоясанная гарусным пояском; суконные шаровары, запрятанные за голенища начищенных сапог. Костюм старый. Он накладывает на Коренистова отпечаток прошлого. Но сам Коренистов выглядит не так, как прежде. Нахмуренные брови будто приподнялись, из-под них смотрят ласковые, веселые пепельно-серые глаза. Борода стала мягче, шире, она лежит на груди, протканная дорожками седины. А на лацкане пиджака, из красной шелковой виньетки, блестит орден Трудового Знамени.
1928—1934 гг.