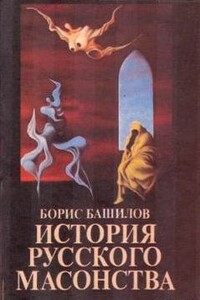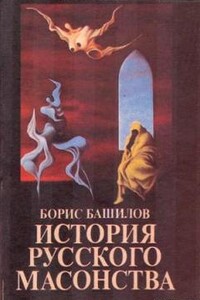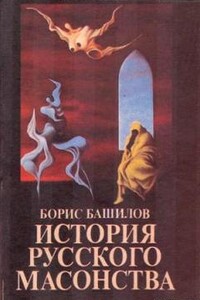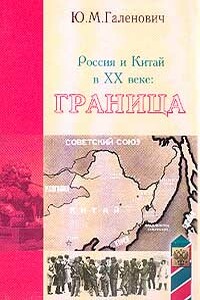«…Философские понятия распространялись у нас весьма сильно, — писал Киреевский, — нет почти человека, который не говорил бы философскими терминами, нет юноши, который не рассуждал бы о Гегеле, нет почти книги, нет журнальной статьи, где незаметно было бы влияние немецкого мышления; десятилетние мальчики говорят о конкретной объективности…»«…Имя Гегеля, — вспоминает Фет, — до того стало популярным на нашем верху, что сопровождавший временами нас в театр слуга Иван, выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при разъезде вместо: «коляску Григорьева» — «коляску Гегеля!» С той поры в доме говорилось о том, как о Иване Гегеле…» Этот комический эпизод очень верно передает атмосферу увлечения Гегелем в России в сороковых годах. Можно было себе представить, сколько было крику о Гегеле, если даже пьяный слуга кричит, чтобы подавали коляску Гегелю.
«…Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, — сообщает Герцен, — не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиду мнения об «Абсолютной личности и ее по себе бывшие». Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней… как… заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелете, Отто, Башке, Шиллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге, если бы они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве, между Маросейкой и Моховой, как их читали и как их покупали»…
Увлечение Гегелем приняло форму общественной истерии, форму, напоминавшую своей силой общественные истерии в Европе, в Средние века.
«Я гегелист, как он, как все», — высмеивал это увлечение немецким идеализмом, Григорьев в своей пьесе «Два эгоизма».
Прав Чижевский, когда говорит, что душевную атмосферу русских философских кружков можно назвать: энтузиастической, «эксхатологической», «романтической» и «фантастической». Это была, действительно, фантастическая эпоха. Новоявленные философы желали немедленно воплощать свои философские идеалы в жизнь. И. С. Тургенев однажды несколько часов яростно спорил с Белинским о бытии Божьем.
Улучив минуту, он предложил прекратить временно спор и идти поесть.
— Как, — закричал в возмущении Белинский, — мы еще не решили вопроса о бытии Божьем, а вы хотите есть.
В. И. Оболенский после издания «Платоновых разговоров», целую неделю играл на флейте без… сапог. Друг Герцена Огарев, решивший жить «под знаком Гегеля», решил подавлять все чувства любви: «я не должен поддаваться любви, — пишет он, — моя любовь посвящена высшей универсальной любви… я принесу свою настоящую любовь в жертву на алтарь всемирного чувства».
Неистовый Бакунин проповедовал философию Гегеля всем знакомым дамам. На одном благотворительном балу провозглашались тосты за категории гегелевской логики.
Московские салоны стали «философскими салонами».
Гегельянские кружки существовали не только в обоих столицах, но даже и в провинциальных городах… Был гегельянский кружок даже в Нежине.
Увлечение немецким идеализмом шло широко, чисто по-русски:. «от соленых нежинских огурчиков прямо… к Гегелю».
В «Былом и Думах», характеризуя книжное отношение к жизни, царившее в московском гегельянском кружке 1840-х годов, Герцен писал:
«Все в самом деле живое, непосредственное, всякое простое чувство было возведено в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью».
Философия Гегеля подобного восторженного поклонения совершенно не заслуживала. Выдающийся русский мыслитель К. Ф. Федоров дает следующую, верную оценку Гегелю: «Гегель, можно сказать, родился в мундире. Его предки были чиновниками в мундирах, чиновники в рясах, чиновники без мундиров — учителя, а отчасти, хотя и ремесленники, но, тоже, цеховые. Все это отразилось на его философии, особенно же на бездушнейшей «Философии Духа», раньше же всего на его учении о праве.
Называть конституционное государство «Богом» мог только тот, кто был чиновником от утробы матери».