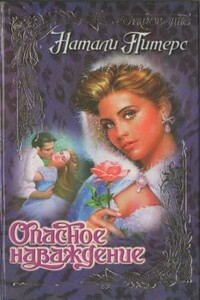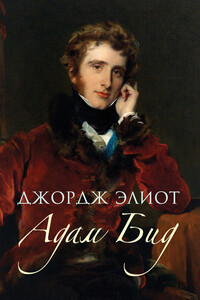– Не верю!
– Вот видите. Я же вам говорила! – ликующе сказала Лиа. – Теперь быть евреем совсем неплохо. Я уверена, что я – первая балерина-еврейка в Венеции.
– Не забудьте, Лиа, отныне вы не имеете права есть свинину, – предупредил ее с деланной суровостью Малачи.
– А почему нет? До сих пор я не умерла от нее. Считаю, это глупое правило. Его следует отменить!
– Подождите-подождите, вы стали еврейкой только сегодня, – рассмеялся Малачи. – Вам надо хоть немного времени, чтобы освоить талмуд!
– Сегодня великий день, – сказал Раф, глядя па густые клубы дыма, поднимающиеся из оставшегося от костра пепелища. – Я никогда не был так счастлив.
– У вас есть полное право гордиться, – тепло сказала Лиа. – И мы все гордимся вами!
– Если бы здесь была тетя Ребекка…
– Она здесь! – возбужденно проговорила Лиа. – Посмотрите наверх, вон в то окно! – Она взяла Рафа за руку и привлекла его внимание к окну второго этажа дома, выходящего на площадь. Там сидела надежно укутанная тетя Рафа и наблюдала за происходящим с кроткой улыбкой. – Я хотела, чтобы она все увидела. Мне кажется, она выглядит лучше. Правда?
– Да, – сказал Раф. – Спасибо вам, Лиа. За нее. За это. – Он тронул пальцами край ее черной шали. – Надеюсь, вы сделали это не ради меня.
– Ради вас? Вынуждена ответить на это отрицательно, – солгала Лиа. – В душе я еврейка. Все еще жду своего избавителя!
– Лиа, мне стыдно за то, что произошло в ту ночь. Я не хотел…
– Успокойтесь. – Она прикрыла его рот кончиками своих хрупких пальцев. – Я никогда не сердилась на вас за это. Частично и я была виновата, спровоцировала вас. Ну а теперь пошли танцевать.
На краю площади собралось несколько музыкантов, и группа молодежи стала водить хоровод. Взяв Рафа за руку, Лиа повела его за собой, и они присоединились к танцу.
Дым от костра взвивался в голубое небо, и дувший с моря легкий бриз уносил его прочь. Через несколько часов ворота гетто превратились в золу и остались лишь в памяти тех, кто их когда-то видел.
– Скоро папа вернется домой? – в двадцатый раз спрашивал Паоло.
– Скоро, мой дорогой, – мягко сказала Фоска, прижав его к себе и отведя волосы с его лба. – Теперь со дня на день.
Могла ли она сказать сыну, что человек, которого тот называл своим отцом, через три дня будет мертв?
Паоло воспринял присутствие в доме Рафа и французских солдат с присущим ему апломбом. Распорядок его жизни изменился мало. Он продолжал заниматься с Фра Роберто в детской комнате на третьем этаже, играл гаммы на пианино под зорким взглядом Фоски и запускал свой корабль в пруду во внутреннем дворе.
Раф продолжал оказывать давление на Фоску, пытаясь убедить ее сказать мальчику, что его настоящим отцом является он, Раф, а не Алессандро Лоредан. Но Фоска откладывала разговор, говорила, что Паоло к нему не готов.
Нельзя слишком волновать его. Для этого наступит время после казни Алессандро.
– Мне нравятся солдаты, – как-то между делом сказал Паоло. – Месье Луи показал мне сегодня свое ружье.
– Паоло, я запрещаю тебе!
– Но оно не было заряжено, – поспешно успокоил ее Паоло. – И потом месье Луи сказал, что не разрешит мне стрелять, поскольку от отдачи ружья я могу упасть. Мы говорили по-французски, – добавил Паоло гордо. – От солдат я узнаю множество слов.
– Могу представить, – проворчала Фоска. Она безуспешно пыталась изолировать своего сына от захватчиков. Раф же настаивал на знакомстве Паоло с солдатами и на том, чтобы мальчику разрешали играть с детьми слуг и гондольеров, что в прошлом строго запрещалось.
«Демократия, – думала раздраженно Фоска, – что за вздор!»
Они сидели вместе с Паоло в небольшом музыкальном салоне. Заходящее солнце отбрасывало оранжевый свет на выложенные зеркалами стены комнаты. Со стороны протекавшего внизу канала доносились звуки плещущих волн вместе с раскатами смеха, ударами друг о друга лодок, обрывками песни гондольера. Наступило мирное послеполуденное время – золотое и спокойное.
«Как странно, – думала Фоска, – сидеть здесь, будто бы в мире не свершается ничего дурного. А может быть, так оно и есть. Возможно, мои страхи лишь плод воображения. На самом же деле в этом волшебно красивом мире нет ничего отвратительного, уродливого. Ни смерти, ни войны, ни опасности».